Куприн Александр Иванович.
Дюма-отец
Этот очерк был написан мною в 1919 году по данным, которые я усердно разыскивал в С.-Петербургской публичной библиотеке. Света ему так и не довелось увидеть: при отходе, вместе с северо-западной армией, от Гатчины я ничего не успел взять из дома, кроме портрета Толстого с автографом. Поэтому и пишу сейчас наизусть, по смутной памяти, кусками. Труд этот был бескорыстен.
Что я мог бы получить за четыре печатных листа в издательстве "Всемирной литературы"?.. Ну, скажем, четыре тысячи керенками. Но за такую сумму нельзя было достать даже фунта хлеба. Зато скажу с благодарностью, что писать эту статью -- "Дюма, его жизнь и творчество" -- было для меня в те дни... и теплой радостью, и душевной укрепой.
Удивительное явление: Дюма и до сих пор считается у положительных людей и у серьезных литераторов легкомысленным, бульварным писателем, о котором можно говорить лишь с немного пренебрежительной, немного снисходительной улыбкой, а между тем его романы, несмотря на почти столетний возраст, живут, вопреки законам времени и забвения, с прежней неувядаемой силой и с прежним добрым очарованием, как сказки Андерсена, как "Хижина дяди Тома", и еще многим, многим дадут в будущем тихие и светлые минуты. Про творения Дюма можно ска- зать то же самое, что сказано у Соломона о вине: "Дайте вино огорченному жизнью. Пусть он выпьет и на время забудет горе свое". Вот что писал к Дюма после получки от него "Трех мушкетеров" Генрих Гейне, тогда уже больной и страждущий: "Милый Дюма, как я благодарен Вам за Вашу прекрасную книгу! Мы читаем ее с наслаждением. Иногда я не могу утерпеть и восклицаю громко: "Какая прелесть этот Дюма!" И Мушка [Матильда -- последняя подруга Гейне. Когда поэт умер и опечаленные друзья говорили ей о том, какого великого художника лишился мир, она сказала: "Оставьте. Умер мой Анри". (Прим. А. И. Куприна.)] прибавляет со слезами на глазах: "Дюма очарователен". И попугай говорит из клетки: "Да здравствует Дюма!"
В одном из своих последних романов Джек Лондон восклицает по поводу своего героя, измученного тяжелой душевной драмой: "Какое великое счастье, что для людей, близких к отчаянию, существует утешительный Дюма".
У нас, в прежней либеральной России, ходить в цирк и читать Дюма считалось явными признаками отсталости, несознательности, безыдейности. Однако я знавал немало людей "с убеждениями", которые для виду держали на полках Маркса, Чернышевского и Михайловского, а в укромном уголке хранили потихоньку полное собрание Дюма в сафьяновых переплетах. Леонид Андреев, человек высокого таланта и глубоких страданий, не раз говорил, что Дюма -- самый любимый его писатель. Молодой Горький тоже обожал Дюма.
В расцвете своей славы Дюма был божком капризного Парижа. Когда его роман "Граф Монте-Кристо" печатался ежедневно главами в большой парижской газете, то перед воротами редакции еще с ночи стояли длиннейшие хвосты. Уличных газетчиков чуть не разрывали на части. Популярность его была огромна. Кто-то сказал про него, что его слава и обаяние занимают второе место за Наполеоном. Золото лилось к нему ручьями и тотчас же утекало сквозь его пальцы. Ни в личной щедрости, ни в своих затеях он не знал предела широте. В его мемуарах есть подробное описание того роскошного праздника, который он дал однажды всему светскому, литературному и артистическому Парижу. Это -- рассказ, как будто написанный пером Рабле. Все не только знаменитые, но просто хоть немного известные лица тогдашнего Парижа перечислены в нем. И воображаю тот эффект, который получился, когда после пиршества, глубокою ночью, Дюма и его гости вышли на улицу, чтобы устроить грандиозное шествие под музыку с факелами в руках, и когда полицейская стража кричала; "Вив нотр Дюма".
Доброта его была безгранична и всегда тонко-деликатна. Изредка его посещал один престарелый писатель, когда-то весьма известный, но скоро забытый, как это часто бывает в Париже, где лица так же быстро стираются, как ходячая монета. При каждой встрече Дюма неизменно и ласково приглашал его к себе. Но старый писатель был человек щепетильный и, из опасения показаться прихлебателем, своих посещений не учащал, хотя и был беден, жил в холодной мансарде и питался скудно. Эта своеобразная гордость не укрылась от Дюма, и однажды он, с трудом разыскав писателя, сказал ему:
-- Дорогой собрат, окажите мне величайшую помощь, за которую я буду вам благодарен до самой могилы. Видите ли, я в моем творчестве всегда завишу от перемены погоды. Но, кроме чувствительности, я еще и очень мнителен и самому себе не доверяю. Вот теперь господин Реомюр установил на новом мосту аппарат, который называется барометром и без ошибки предсказывает погоду. Так, будьте добры, ходите ежедневно на новый мост и потом извещайте меня о предсказаниях барометра. А чтобы мне не волноваться, а вам не делать двух длинных концов, то уж, будьте добры, поселитесь в моем доме, в котором так много комнат, что он кажется пустым, а я боюсь пустоты. Ваше общество мне навсегда приятно.
Писатель после этого очень долго прожил у Дюма. Каждый день ходил он на Пон-Неф за барометрической справкой, в полной и гордой уверенности, что делает большую помощь этому доброму толстому славному Дюма, а Дюма всегда относился к нему с бережным вниманием и искренней благодарностью.
Конечно, "простотой" и широтой Дюма нередко злоупотребляли. Однажды пришел к нему какой-то молодой человек столь странной и дикой внешности, что прислуга сначала не хотела о нем докладывать, тем более что он держал на спине огромный тюк, завязанный в грязную рогожку. Но так как подозрительный юноша настаивал на том, что он явился к г. Дюма по самому важнейшему делу и что г. Дюма, узнав, в чем оно состоит, будет очень рад и благодарен,-- то лакей решился известить хозяина, а тот велел впустить сомнительного гостя.
Молодой человек вошел, низко поклонился, пробормотал какое-то арабское приветствие и принялся разворачивать свой грязный тюк. Дюма смотрел с любопытством. Каково же было его удивление, когда на ковер вывалилась огромная шкура африканского льва; шкура вся вытертая, траченная молью, кое-где продырявленная.
Молодой человек опять отвесил низкий поклон, опять что-то пробормотал по-арабски и, выпрямившись, указал пальцем на шкуру.
-- Великий писатель,-- сказал он торжественно.-- Этот ужасный лев, которого называли "человекоубийца", наводил ужас на все окрестности Каира. Твой славный отец, генерал Дюма, убил его собственноручно, а шкуру подарил на память моему деду, потому что он был другом и покровителем нашей семьи и нередко, к нашей радости и гордости, гостил у нас целыми неделями и месяцами.
Дар его был для нас самой драгоценной реликвией, с которой мы не расстались бы ни за какие сокровища мира. Но, увы, теперь дом наш пришел в упадок и разорение, и вот моя престарелая мать сказала мне: "Не нашему нищенскому жилищу надлежит хранить эту реликвию. Иди и отдай ее наиболее достойному, то есть славному писателю Дюма, сыну славного генерала Дюма". Прими же этот дар, эфенди, и, если хочешь, дай мне приют на самое малое время.
Дюма тонко ценил смешное -- даже в наглости. Молодой человек прогостил у него, говорят, полтора года, а так как был вороват и ленив, а от безделья совсем распустился и обнаглел без меры, то однажды и был выброшен за дверь вместе с знаменитой шкурой.
Все великие достоинства, равно как и маленькие недостатки, Дюма имели какой-то наивный, беззаботный, не только юношеский, но как бы детский, мальчишеский, проказнический характер задора, веселья и горячей, жадной, инстинктивной влюбленности в жизнь. Мало кому известно, например, о том, что Дюма оставил после себя среди чуть ли не пяти сотен томов сочинений очень интересную поваренную книжку. "Лесть, богатства и слава мира" не портили его доброй души; неудачи и клевета не оставляли в его мужественном сердце горьких, неизлечимых заноз.
Я не знаю, можно ли честолюбие считать одним из смертных грехов. Да и кто этому пороку в большой или малой степени не подвержен? Дюма был очень честолюбив, но опять-таки как-то невинно, по-детски: немножко смешно, немножко глупо и даже трогательно. Огромного веса своей литературной славы он точно не замечал. Один только раз он проговорился о том, что со временем люди будут учить историю Франции по его книгам. Нужно сказать, что он был прав.
Если отбросить романтические завитки, то действительно эпоха от Франциска I до Людовика XVI показана и рассказана им с неизгладимой яркостью и силой...
Нет! Его влекли к себе другие аплодисменты, другие пальмы и другие лавры.
Одно время Дюма во что бы то ни стало захотел сделаться депутатом парламента.
Зачем? Может быть, однажды утром он открыл в себе неожиданно громадные политические способности? Во всяком случае, у него замысел чрезвычайно быстро переходил в слово, а слово мгновенно обращалось в дело. Собрав вокруг себя небольшую, но преданную ему кучку друзей, Дюма вторгся -- уж не помню теперь, в какой департамент и в какую коммунку. Трудно теперь и представить себе, что говорил и что обещал своим будущим избирателям этот вулканический, пламенный фантастический гений, величайший импровизатор. Добрые осторожные буржуа устраивали ему пышные встречи, шумные манифестации, роскошные обеды... Но при подаче голосов дружно провалили его, ибо предпочли ему мест- ного солидного аптекаря.
После этого поражения, поздно вечером, взволнованный и огорченный Дюма возвращался к себе в гостиницу вместе со своими негодующими друзьями. Путь их лежал через старый мост, построенный над узкой, но быстрой речонкой.
Было уже почти темно. Навстречу им шел, слегка покачиваясь, какой-то местный гражданин. Увидев Дюма, он радостно воскликнул:
-- А, вот он, этот знаменитый негр!
"Тогда я,-- говорит Дюма в своих мемуарах,-- взял его одной рукой за шиворот, а другой за штаны, в том месте, где спина теряет свое почетное наименование, и швырнул его, как котенка, в воду. Слава богу, что прохвост отделался только холодным купанием. У меня же сразу отлегло от сердца".
Так печально и смешно окончилась политическая карьера очаровательного Дюма.
Почти подобное и даже, кажется, более жестокое поражение потерпел Дюма в ту пору, когда его неуемное воображение возжаждало академического крещения. С той же яростной неутомимостью, с которой он жил, мыслил и писал, Дюма стремительно хватался за каждый удобный случай, который помог бы ему войти в священный круг сорока бессмертных. Но кандидатура его никогда не имела успеха, как впоследствии у Золя.
И вот однажды выбывает из числа славных сорока академик N, для того чтобы переселиться в вечную Академию. Немедленно после его праведной кончины
Дюма мечется по всему Парижу, ища дружеской и влиятельной поддержки, чтобы сесть на пустующее академическое кресло в камзоле, расшитом золотыми академическими пальмами.
Бесстрашно приехал он также и к Жозефу Мишо -- тогда очень известному литератору, автору веских статей о крестовых походах и, кстати, человеку желчному и острому на язык.
Для чего была Академия Дюма -- этому человеку, пресыщенному славой? Но к
Мишо он заявился, даже не будучи с ним лично знакомым, да еще в то время, когда почтенный литератор завтракал со своими друзьями.
Доложив о себе через лакея, он вошел в столовую, одетый в безукоризненный фрак, с восьмилучевым цилиндром под мышкой. Мишо встретил его с той ледяной вежливостью, с которой умеют только чистокровные парижане встречать непрошеных гостей.
Дюма горячо, торопливо и красноречиво изложил мотив своего посещения: "Столь великое и авторитетное имя, как ваше, дорогой учитель, и тра-та-та и та-та-та- тра..."
Мишо выслушал его в спокойном молчании, и, когда Дюма, истощив весь запас красных слов, замолчал, старый литератор сказал:
-- Да, ваше имя мне знакомо. Но, позвольте, неужели N, такой достойный литератор и ученый, действительно умер? Какая горестная утрата!
-- Как же, как же!-- заволновался Дюма.-- Я к вам приехал прямо с
Монпарнасского кладбища, где предавали земле прах славного академика, кресло которого теперь печально пустует.
-- Ага,-- сказал Мишо и сделал паузу.-- Так вы, вероятно, приехали сюда на погребальных дрогах.
Милый, добрый, чудесный Дюма! Может быть, в первый раз за всю свою пеструю жизнь он не нашел ловкой реплики и поторопился уехать. Академиком же ему так и не удалось сделаться.
Питал он также невинную слабость к разным орденам, брелокам и жетонам, украшая себя ими при каждом удобном случае. Все экзотические львы, солнца, слоны, попугай, носороги, орлы и змеи, иные эмблемы, даже золотые, серебряные и в мелких бриллиантиках украшали лацканы и петлички парадных его одежд.
Прекрасный писатель, который теперь почти забыт, но до сих пор еще неувядаемо ценен, Шарль Нодье, который очень любил Дюма и многое сделал для его блистательной карьеры, говорил иногда своему молодому другу:
-- Ах, уж мне эти негры! Всегда их влекут к себе блестящие побрякушки!
Но прошло несколько лет. Дюма впал в роковую бедность. Кругом неугасимые долги. Падало вдохновение... В эту зловещую пору пришли к Дюма добрые люди с подписным листом в пользу старой, некогда знаменитой певицы, которая потеряла и голос, и деньги, и друзей и находилась в положении более горьком, чем положение Дюма.
-- Что я могу сделать? -- вскричал Дюма, хватая себя за волосы.-- У меня всего-навсего два медных су и на миллион франков векселей... А впрочем, постойте, постойте... Вот идея! Возьмите-ка эти мои ордена и продайте. Почем знать, может быть, за эту дрянь и дадут что-нибудь.
И в эту же эпоху бедствий он отдал бедному писателю, просившему о помощи, пару роскошных турецких пистолетов.
Несомненно: Дюма останется еще на многие годы любимцем и другом читателей с пылким воображением и с не совсем остывшей кровью. Но, увы, также надолго со- хранится и убеждение в том, что большинство его произведений написаны в слишком тесном сотрудничестве с другими авторами.
Повторять что-нибудь дурное, сомнительное, позорное или слишком интимное о людях славы и искусства -- было всегда лакомством для критиков и публики.
Помню, как в Москве один учитель средней школы на жадные расспросы о Дюма сказал уверенно: -- Дюма? Да ведь он не написал за всю жизнь ни одной строчки. Он только нанимал романистов и подписывался за них. Сам же он писать совсем не умел и даже читал с большим трудом.
Видите, куда повело удовольствие злой сплетни? Конечно, всякому ясно, что выпустить в свет около пятисот шестидесяти увесистых книг, содержащих в себе длиннейшие романы и пятиактные пьесы,-- дело немыслимое для одного человека, как бы он ни был борзописен, какими бы физическими и духовными силами он ни обладал. Если мы допустим, что Дюма умудрялся при титанических усилиях писать по четыре романа в год, то и тогда ему понадобилось бы для полного комплекта его сочинений работать около ста сорока лет самым усердным образом, подхлестывая себя неистово сотнями чашек крепчайшего кофея.
Да. У Дюма были сотрудники. Например: Огюст Макэ, Поль Мерис, Октав Фейе, Е.
Сустре, Жерар де Нерваль, были, вероятно, и другие... ...Но вот тут-то мы как раз и подошли к чрезвычайно сложным, запутанным и щекотливым литературным вопросам. С самых давних времен весьма много было говорено о вольном и невольном плагиате, о литературных "неграх", о пользовании чужими, хотя бы очень старыми, хотя бы совсем забытыми, хотя бы никогда не имевшими успеха сюжетами и так далее. Шекспир по этому поводу говорил:
-- Я беру мое добро там, где его нахожу. Дюма на ту же самую тему сказал с истинно французской образностью:
-- Сделал ли я плохо, если, встретив прекрасную девушку в грязной, грубой и темной компании, я взял ее за руку и ввел в порядочное общество?
И не Наполеон ли обронил однажды жестокое слово: -- Я пользуюсь славою тех, которые ее недостойны.
Коллективное творчество имеет множество видов, условий и оттенков. Во всяком случае, на фасаде выстроенного дома ставит свое имя архитектор, а не каменщик, и не маляры, и не землекопы.
Чарльз Диккенс, которого Достоевский называл самым христианским из писателей, иногда не брезговал содействием литературных сотоварищей, каковыми бывали даже и дамы-писательницы: мисс Мэльхолланд и мисс Стрэттон, а из мужчин --
Торкбери, Гаскайн и Уильки Коллинс. Особенно последний, весьма талантливый писатель, имя и сочинения которого до сих пор ценны для очень широкого круга читателей.
Распределение совместной работы происходило приблизительно так: Диккенс -- прекрасный рассказчик, передавал иногда за дружеской беседой нить какой-нибудь пришедшей ему в голову или от кого-нибудь слышанной истории курьезного или трогательного характера. Потом этот намек на тему разделялся на несколько частей, в зависимости от количества будущих сотрудников, и каждому из соавторов, в пределах общего плана, предоставлялось широкое место для личного вдохновения. Потом отдельные части повести соединялись в одно целое, причем швы заглаживал опытный карандаш самого Диккенса, а затем общее сочинение шло в типографский станок.
Эти полушутливые вещицы вошли со временем в Полное собрание сочинений
Диккенса. Сотрудники в нем переименованы, но вот беда: если не глядеть на фамилии, то Диккенс сразу бросается в глаза своей вечной прелестью, а его сотоварищей по перу никак не отличишь друг от друга.
В фабрике Дюма были, вероятно, совсем иные условия и отношения. Прежде всего надо сказать, что, если кто и был в этом товариществе настоящим "негром", то, конечно, он, сорокасильный, неутомимый, неукротимый, трудолюбивейший
Александр Дюма. Он мог работать сколько угодно часов в сутки, от самого раннего утра до самой поздней ночи, иногда и больше. Из-под пера так и падали с легким шелестом бумажные листы, исписанные мелким отличнейшим почерком, за который его обожали наборщики (кстати, и его восхищенные первочитатели).
Говорят, он пыхтел и потел во время работы, ибо был тучен и горяч.
По его бесчисленным сочинениям можно судить, какое огромное количество требовалось ему сведений об именах, характерах, родстве, костюмах, привычках и т. д. его действующих персонажей. Разве хватало у него времени просиживать часами в библиотеке, бегать по музеям, рыться в пыли архивов, разыскивать старые хроники и мемуары и делать выписки из редких исторических книг?
Если в этой кропотливой работе ему помогали друзья (как впоследствии Флоберу), то оплатить эту услугу было бы одинаково честно и ласковой признательностью, и денежными знаками или, наконец, и тем и другим.
Правда, Дюма порою мало церемонился с годами, числами и фактами, но во всех лучших его романах безошибочно чувствуется его собственная, хозяйская, авторская рука. Ее узнаешь и по характерному искусству диалога, по грубоватому остроумию, по яркости портретов и быта, по внутренней доброте...
Правда и то, что очень часто, особенно в последние свои годы, Дюма прибегал к самому щедрому и самому бескорыстному сотруднику -- к ножницам. Но и здесь, сквозь десятки чужих страниц географического, этнографического, исторического и вообще энциклопедического свойства, все-таки блистает прежний Дюма, пылкий, живой, увлекательный, роскошный.
Это не Октав Фейе и не Жерар де Нерваль, а Огюст Макэ заявил публичную претензию на Дюма, которому он чем-то помог в "Трех мушкетерах". Оттуда и пошел разговор о "неграх". Но после первого театрального представления одноименной пьесы, переделанной из романа и прошедшей с колоссальным успехом, Дюма, под бешеные аплодисменты и крики, насильно вытащил упирав- шегося Макэ к рампе, потребовал молчания и сказал своим могучим голосом:
-- Вот Огюст Макэ, мой друг и сотрудник. Ваши лестные восторги относятся одинаково и к нему и ко мне.
И у Макэ потекли из глаз слезы.
Подобно тому как роман, так и театр сделался привычной стихией старшего Дюма.
И немало сохранилось театральных воспоминаний и закулисных анекдотов, в которых сверкают остроумие Дюма, его находчивость, его вспыльчивость и его великодушие. К сожалению, эта сторона его жизни не нашла внимательного собирателя; отдельные рассказы о ней разбросаны а множестве старых периодических изданий.
Театральные пьесы Дюма отличались необыкновенной сценичностью; они держали зрителя на протяжении всех пяти актов в неослабном напряжении, заставляя его и смеяться, и ужасаться, и плакать. В продолжение многих лет он был кумиром всех театральных сердец.
Писал свои пьесы Дюма с необыкновенной легкостью и с непостижимой быстротой. Но на репетициях он нередко делал в тексте вставки и сокращения, к обиде режиссера и к большому неудовольствию артистов, которым всегда очень трудно бывает переучивать наново уже раз заученные реплики. Но на Дюма никто не умел сердиться долго. Был в нем удивительный дар очарования...
Шла сложная постановка его новой пьесы "Антони". На первых репетициях он, как и всегда, внимательно глядел на сцену, делая время от времени незначительные замечания. Но, по мере того, как работа над пьесой подвигалась к концу и уж недалек был день костюмной репетиции, обыкновенно предшествующей репетиции генеральной,-- друзья Дюма стали с удивлением замечать, что драматург реже и реже смотрит на рампу и что его глаза все чаще и настойчивее обращены на правую боковую кулису, за которой всегда помещался один и тот же дежурный пожарный, молодой красивый человек, скорее мальчик. Причина такого пристального внимания была никому не понятна.
На костюмной репетиции Дюма был еще более рассеянным и все глубже вперял взоры в правую боковую кулису. Наконец, по окончании третьего акта, когда настала обычная маленькая передышка, он поманил к себе рукою режиссера и, когда тот подошел, сказал ему:
-- Пойдемте-ка за сцену.
И он потащил его как раз к загадочной правой кулисе, где по-прежнему стоял, позевывая, юный помпье. Дюма ласково положил руку на плечо юноше.
-- Объясните мне, mon vieux [дружище -- франц.], одну вещь,-- сказал он.
-- К вашим услугам, господин Дюма.
-- Только прошу вас, говорите откровенно. Не бойтесь ничего.
-- Я ничего и не боюсь. Я -- пожарный.
-- Это делает вам честь,-- похвалил Дюма.-- Видите ли, я уже много раз наблюдал за тем, как вы слушали на репетициях мою пьесу, и, даю слово: внимание ваше мне было лестно. Но одно явление удивляло меня. Почему перед третьим актом вы всегда покидали ваше постоянное место и куда-то исчезали, чтобы прийти к началу четвертого?
-- Сказать вам правду, господин Дюма? -- застенчиво спросил пожарный.
-- Да. И самую жестокую.
-- Конечно, господин Дюма, я ничего не понимаю в вашем великом искусстве, и человек я малообразованный. Но что я могу поделать, если этот акт меня совсем не интересует. Все другие акты прелесть как хороши, а третий кажется мне длинным и вялым. Но, впрочем, может быть, это так и нужно?
-- Нет! -- вскричал Дюма.-- Нет, мой сын, длинное и скучное -- первые враги искусства. Возьми, мой друг, эту круглую штучку в знак моей глубокой благодарности.
И, обернувшись к режиссеру, он сказал спокойно:
-- Идемте переделывать третий акт! Помпье прав! Этот акт должен быть самым ярким и живым во всей пьесе. Иначе она провалится. Идем!
Тот, кто хоть чуть-чуть знаком с тайнами и с техникой театральной кухни, тот поймет, что переделывать весь третий акт накануне генеральной репетиции -- такое же безумие, как перестроить план и изменить размеры третьего этажа в пятиэтажном доме, в который жильцы уже начали ввозить свою мебель и кухонную посуду. Но когда Дюма загорался деятельностью, ему невозможно было сопротивляться. Артисты били себя в грудь кулаками, артистки жалобно стонали, режиссер рвал на себе волосы, суфлер упал в обморок в своей будке, но Дюма остался непреклонным. В тот срок, пока репетировали четвертый и пятый акты, он успел переработать третий до полной неузнаваемости, покрыв авторский подлинник бесчисленными помарками и вставками. Задержав артистов после репетиции на полчаса, оп успел еще прочитать им переделанный акт и дать необходимые указания. За ночь были переписаны как весь акт, так и актерские экземпляры, которые артистами были получены ранним утром. В полдень сделали две репетиции третьего акта, а в семь с половиною вечера началась генеральная репетиция "Антони", замечательной пьесы, которую публика приняла с неслыханным восторгом и которая шла сто раз подряд.
Актеры, правда, достаточно-таки и серьезно поворчали на Дюма за его диктаторское поведение. Но в театре успех покрывает все. Да и актерский гнев, всегда немного театральный -- недолговечен. Один из артистов говорил впоследствии:
-- Только один Дюма способен на такие чудеса. Он разбил ударом кулака весь третий акт "Антони" и вставил в дыру свой волшебный фонарь. И вся пьеса вдруг загорелась огнями и засверкала...
Да, Дюма знал секреты сцены и знал свою публику. Не раз полушутя он говорил:
-- На моих пьесах никто не задремлет, а человек, впавший в летаргию, непременно проснется.
Но однажды подвернулся удивительный по редкому совпадению и по курьезности двойной случай.
В каком-то театре шли попеременно один день -- пьеса Дюма, другой день -- пьеса очень известного в ту пору драматурга, бывшего с Дюма в самых наилучших отношениях. На одном из представлений они оба сидели в ложе. Шла пьеса не
Дюма, а его друга. И вот писатели чувствуют, что в партере начинается какое-то движение, слышится шепот, потом раздается задушенный смех. Наконец зоркий
Дюма слегка толкает своего приятеля в бок и говорит с улыбкой: -- Погляди-ка на этого лысого толстяка, что сидит под нами. Он заснул от твоей пьесы, и сейчас мы услышим его храп.
Но нужно же было произойти удивительному стечению обстоятельств! На другой день оба друга сидели в том же театре и в той же ложе, но на этот раз шла пьеса
Дюма. Жизнь иногда проделывает совсем неправдоподобные штучки. В середине четвертого акта, сидя почти на том же самом кресле, где сидел и прежний лысый толстяк,-- какой-то усталый зритель начал клевать носом и головою, очевидно готовясь погрузиться в сладкий сон.
-- Полюбуйся! -- язвительно сказал друг, указывая на соню.
-- О нет! Ошибаешься! -- весело ответил Дюма.-- Это твой, вчерашний. Он еще до сих пор не успел проснуться.
Конечно, живя много лет интересами театра, создавая для него великолепные пьесы, восторгаясь его успехами, волнуясь его волнениями и дыша пряным, опьяняющим воздухом кулис и лож, Дюма, с его необузданным воображением и пылким сердцем, не мог не впадать в иллюзии, обычные для всех владык, поклонников и рабов театра. Заблуждение этих безумцев, впрочем, не очень опасных, заключается в том, что за настоящую, подлинную жизнь они принимают лишь те явления, которые происходят на деревянных подмостках ослепительного пространства, ограниченного двумя кулисами и задним планом, а будничное, безыскусственное бытие, жизнь улицы и дома, жизнь, в которой по-настоящему едят, пьют, проверяют кухаркины счета, любят, рожают и кормят детей,-- кажется им банальной, скучной, плохо поставленной, совсем неудачной пьесой, полной к тому же провальных длиннот. И кто же решится осудить их, если в эту плохую и пресную пьесу без выигрышных ролей они вставляют настоящие театральные бурные эффекты? Это только поправка.
И зачем же нам удивляться тому, что все увлечения, амуры и связи у Дюма были исключительно театрального характера?
Есть словесное, а потому и не особенно достоверное показание великого русского писателя, которого имя я не смею привести именно по причине скользкой опоры.
Говорят, что этот писатель как-то приехал к Дюма по его давнишнему приглашению и, как полагается европейцу, послал ему через лакея свою визитную карточку. Через минуту он услышал издали громоподобный голос Дюма:
-- ...Очень рад. Очень рад. Входите, дорогой собрат. Входите. Только прошу простить меня: я сейчас в рабочем беспорядке.
-- О! Не стесняйтесь! Пустяки...-- сказал русский писатель.
Однако когда он вошел в кабинет, то совсем не пустяками показалась его дворянскому щепетильному взору картина, которую он увидел.
Дюма, без сюртука, в расстегнутом жилете, сидел за письменным столом, а на коленях у него сидело прелестное, белокурое божье создание, декольтированное и сверху и снизу; оно нежно обнимало писателя за шею тонкой обнаженной рукой, а он продолжал писать. Четвертушки исписанной бумаги устилали весь пол.
-- Простите, дорогой собрат,-- сказал Дюма, не отрываясь от пера.-- Четыре последних строчки, и конец. Вы ведь сами знаете,-- говорил он, продолжая в то же время быстро писать,-- как драгоценны эти минуты упоения работой и как иногда вдохновение внезапно охладевает от перемены комнаты, или места, или даже позы... Ну, вот и готово. Точка. Приветствую вас, дорогой мэтр, в добром городе
Париже... Милая Лили, ты займи знаменитого русского писателя, а я приведу себя в приличный вид и вернусь через две минуты...
В течение всего вечера Дюма был чрезвычайно любезен, весел и разговорчив. Он, как никто, умел пленять и очаровывать людей. Среди разговора русский классик сказал полушутя:
-- Я застал в вашем кабинете поистине прекрасную группу, но я все-таки думаю, дорогой мэтр, что эта поза не особенно удобна для самого процесса писания.
-- Ничуть! -- решительно воскликнул Дюма.-- Если бы на другом колене сидела у меня вторая женщина, я писал бы вдвое больше, вдвое охотнее и вдвое лучше.
На что его изящная подруга возразила, кротко поджимая губки:
-- Посмотрела бы я на эту вторую!
Все недолговечные романы Дюма проходили точно под большим стеклянным колпаком, на виду и на слуху у великого парижского амфитеатра, всегда жадно любопытного к жизни своих знаменитостей, как, впрочем, в меньшей степени, любопытны и все столичные города. Каждое его увлечение сопровождалось помпой, фейерверком, бенгальскими огнями и блистательным спектаклем, в кото- рый входили: и неистовые восторги, и адски клокочущая ревность, и громовые ссоры, и сладчайшие примирения; тропическая жара перемежалась полярной стужей, за окончательным разрывом следовало через день нежнейшее возвращение; бывали упреки, брань, крики и слезы и даже, говорят, небольшие потасовки. И так же театрально бывало действительно последнее, на этот раз неизбежное расставание. Бывшая подруга и вдохновительница собирала в корзины свои тряпки, шляпки и безделушки, а Дюма носился по комнате в одном жилете, с растрепанными волосами, с домашней лесенкой в руках, похожий на ретивого обойщика. Он приставлял эту стремянку то к одной, то к другой стене, торопливо взбирался по ней и, действуя поочередно молотком и клещами, срывал ковры, картины, бронзовые и мраморные фигурки, старое редкое оружие. Спеша ускорить отъезд замешкавшейся временной супруги, он лихорадочно помогал ей.
-- Все! -- кричал [он].-- Возьми себе все. Все. Все. Оставьте мне только мой гений.
Возможность такого курьезного случая я считаю вполне достоверной. Известный переводчик И. Д. Гальперин-Каминский, близко и хорошо знавший Дюма-сына, не раз повторял мне то, что он слышал из уст Александра Александровича Дюма II.
Дюма-младший был свидетелем такой трагикомической сцены в ту пору, когда он был еще наивным и невинным мальчиком и не особенно ясно понимал различие слов.
-- Меня очень удивляло,-- говорил он впоследствии г. Каминскому,-- почему папа с такой яростной щедростью дарит много чудесных дорогих вещей и в то же время настойчиво требует, чтобы ему оставили какой-то его жилет. Я думал: "А может быть, это жилет волшебный?" [Созвучие слов "genie" и "gilet". (Прим. А. И. Куприна.)]
Нелепо пышным апофеозом, блестящим зенитом была та пора в жизни Дюма-отца, когда он купил в окрестностях Парижа огромный кусок земли и при ней чей-то старинный замок. Этот замок Дюма окрестил "Монте-Кристо" и перестроил его самым фантастическим образом. В нем было беспорядочное смешение всех стилей.
Дорические колонны рядом с арабской вязью; рококо и готика, ренессанс и
Византия, персидские ковры и гобелены... И множество больших и малых клеток с птицами и разными зверьками. Чудовищнее всего была огромная столовая. Она была устроена в форме небесного купола из голубой эмали, а на этом голубом фоне сияло золотое солнце, светились разноцветные звезды и блуждала серебряная, меланхолическая, немного удивленная луна...
Шато "Монте-Кристо" с его бесчисленными комнатами всегда, с утра до вечера, было битком набито нужными и ненужными, а часто и совсем неизвестными людьми. Каждый из них ел, пил, спал и развлекался, как ему было удобнее и приятнее. Право, если такой жизненный обиход можно с чем-нибудь сравнить, то только с жизнью русских вельмож восемнадцатого столетия.
Но уже в эти роскошные дни бедный Дюма, перевалив незаметно для себя самого высокую вершину своей жизненной горы, начинал катиться вниз с роковым ускорением. Этот беспечнейший из писателей никогда не знал размеры своих долгов и по-детски верил в то, что его кредит безграничен. Но уже показывались в его бюджете роковые предостерегающие трещины...
И здесь к месту один почти трогательный анекдот.
Рядом с владениями Дюма купил землю и соседний замок какой-то миллионер- нувориш. Чтобы достойно отпраздновать новоселье, этот свежеиспеченный "проприо" привез из Парижа большую и пеструю компанию вместе с обильным грузом шампанского вина. Но он забыл позаботиться о том, чтобы заранее запастись льдом, а пирушка предполагалась от вечерней зари до утренней.
Лед возможно было достать только в одной гостинице, которая находилась как раз на меже имений миллионера и Дюма.
Однако миллионер давно уже слышал о том, что хозяин этой остелери -- человек характера независимого, грубоватого и брыкливого. На денежные соблазны он мало обращал внимания; был очень богат, чувствовал себя в своем кабачке независимым королем и вскоре собирался задорого продать насиженное место, чтобы удалиться на заслуженный и комфортабельный покой.
Но, с другой стороны, "проприо" знал и то, с каким обожанием относились люди попроще к Дюма не только за его обольстительные сочинения, доступные каждому сердцу, но и за его личное обаяние.
Взвесив эти условия, нувориш позвал лакея и сказал ему:
-- Послушайте, Жан, вы пойдете сейчас в гостиницу "Пуль а ля Кок" и купите у хозяина весь лед, какой у него найдется. А так как он меня совсем не знает, то вы скажите, что пришли от господина Дюма. И когда он даст вам лед, то вы положите ему на прилавок вот этот большой луидор. Понятно?
-- Совершенно понятно. Бегу.
Он очень быстро сделал все, что ему было приказано, прибежал в гостиницу "Пуль а ля Кок" и сказал хозяину:
-- Господин Дюма приказал мне просить у вас льда, сколько найдется.
-- Вы, вероятно, недавно служите у господина Дюма? -- спросил приметливый хозяин.
-- Совсем недавно. Со вчерашнего дня.
-- Не правда ли, прекрасный человек ваш патрон?
-- О да, вы правы. Прекрасный!
И все шло благополучно. Хозяин бережно завернул в бумагу и в тряпки четыре глыбы льда и аккуратно перевязал пакет веревкой. Но когда лакей брякнул о стойку двойным луидором, то патрон вдруг весь побагровел, затрясся от злобы и заорал:
-- Негодяй! Как смел ты меня обмануть! Да знаешь ли ты, лжец, что наш славный господин Дюма никогда и нигде не платит? -- и швырнул в лицо лакею двойной тяжелый луидор.
Все быстрее и быстрее катилась вниз, по уклону, изумительная судьба Дюма- старшего. Замок "Монте-Кристо" был продан с аукциона. Всюду, где ни жил творец "Трех мушкетеров", всюду описывали его имущество, ставали печати на его вещи и мебель. Ежедневно предъявляли ему векселя, денежные претензии и вызывали его -- самого непрактичного человека на свете -- в коммерческий суд.
Бесчисленные поклонники, прихлебатели и льстецы давно покинули великого Дюма.
В эту пору посетил его один из редких преданных друзей. Жалкая квартира Дюма была мала, сыра и темновата. Кроме того, находясь в самом людном месте Парижа, она вся беспрестанно содрогалась и дрожала от ломовой езды.
Беседуя с хозяином, приятель обратил внимание на маленький золотой десятифранковик, лежавший на мраморном подзеркальнике.
Дюма поймал его взгляд и сказал:
-- Да. Это символ. Когда я приехал из далекой провинции завоевывать Париж, столицу мира, то у меня не было в карманах ничего, кроме маленького луидора.
Посмотри: теперь карьера моя описала параболу, но от нее у меня ничего не осталось, кроме такого же луи... Странная штука жизнь!..
И какая жестокая! -- можно прибавить к этим печальным словам Дюма. Ум его оставался ясным, твердым, но фантазия, воображение и вдохновение безвозвратно покинули эту прежде столь пламенную творческую голову.
Подобно сказочному, фантастическому, гигантскому шелкопряду, выматывал
Дюма из себя в продолжение многих десятков лет драгоценную шелковую нить и ткал из нее волшебные узоры. Суровый закон природы: нить, казавшаяся бесконечной, вымоталась. Творческий источник медленно иссяк.
За все в жизни надо расплачиваться -- таково таинственное и неумолимое правило возмездия. Наполеон, которому тесен казался весь земной шар, умирает на кро- шечном, проклятом самим богом скалистом островке. Бетховен глохнет. Гейне, вся жизнь которого была радость, веселье, смех и любовь, покорно подчиняется в свои последние дни параличу и слепоте. Дюма, плодовитейшего из всех бывших, настоящих и будущих писателей, неумолимая судьба карает бесплодием. И всего ужаснее то, что этим чудесным людям судьба оставляет чересчур много времени, в течение которого они могли бы сознательно созерцать и ощущать собственное разрушение... Не слишком ли это, всемилостивейшая госпожа судьба?
Последние годы, месяцы и дни Дюма-отца скрасил заботой, лаской и вниманием
Дюма-сын. Он в те времена уже стал не только модным, но даже знаменитым евро- пейским писателем. С неописуемой нежностью и деликатностью он перевез отца из его закоптелой парижской квартиры в свою виллу, которая была расположена где- то на южном побережье. Название места я позабыл, но помню, что из виллы открывался прекрасный вид на море, а под ее террасами был разбит очаровательный цветник.
Трогательный рассказ: наутро после приезда Дюма к сыну за утренним кофеем
Дюма-младший спросил отца:
-- Как ты спал, папа? Надеюсь, что ты хоть немного отдохнул от адского парижского шума и грохота. Старый Дюма немного замялся:
-- Видишь ли... Видишь ли... Я вовсе не спал...
-- Может быть, перемена места? Может быть, какое-нибудь неудобство?
-- Ах, нет, милый, совсем не то. Ночлег мой был поистине царский, но... но...
Этот великолепный, храбрый, самоуверенный Дюма как будто бы стеснялся и конфузился.
-- Мне стыдно сказать. Я захватил с собою из Парижа одну маленькую книжонку и как начал с вечера ее читать, так и читал до самого утра.
Младший Дюма спросил:
-- Может быть, папа, это не секрет. Как заглавие твоей книжки?
-- "Три мушкетера",-- ответил тихо отец. Закат Дюма был тих и беззлобен. Те попечения, которыми окружил его сын, были гораздо более ценными и вескими, чем все его сочинения.
Удивительную историю рассказывал впоследствии младший Дюма:
-- Однажды я застал отца на его любимой скамейке в цветнике. Нагнувшись и склонив голову на ладони, он горько плакал. Я подбежал к нему.
-- Папа, дорогой папа, что с тобой? Почему ты плачешь?
И он ответил:
-- Ах, мне жалко бедного доброго Портоса. Целая скала рухнула на его плечи, и он должен поддерживать ее. Боже мой, как ему тяжело.
--------------------------------------------------------------
Газета" Возрождение", 1930, 2, 11 февраля и 9 марта, NoNo 1706, 1715, 1741.







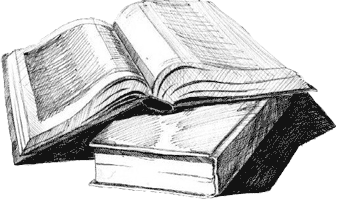 ЧИТАЕМ КУПРИНА
ЧИТАЕМ КУПРИНА