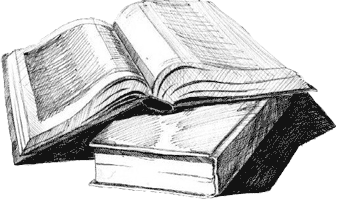 ЧИТАЕМ ЧЕХОВА
ЧИТАЕМ ЧЕХОВА
Антон Чехов
Анна на шее
I
После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст. Многие одобрили это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.
Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть ура, и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, всё тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:
— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!
Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо — ничего нельзя было понять — и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:
— Папочка, будет... Папочка, не надо...
Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.
— Ура-а-а! — кричал он.
Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.
— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, — сказал он, улыбаясь. — Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.
Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.
— Вот так, — сказал он, садясь рядом с Аней.
Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что всё так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.
«О, как я несчастна! — думала она. — Зачем я так несчастна?»
С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...
Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навыкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.
У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:
— Здравствуйте! Как поживаете?
Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.
— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.
— Здесь разъезд, — ответили ей, — ожидают почтового поезда.
Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный дон-жуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.
Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:
— Каждый человек должен иметь свои обязанности!
А Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но всё же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:
— Не надо, папочка... Довольно, папочка...
И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.
— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он. — Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!
Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков:
— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!
По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...» или: «Со средствами... имеет свой дом...» Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:
— Сколько стоит?
— Двадцать пять копеек.
— Однако! — говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.
Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:
— Поклонись этой старой даме!
— Но я с ней незнакома.
— Всё равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! — ворчал он настойчиво. — Голова у тебя не отвалится.
Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала всё, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь — ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такою же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас.
Только один раз Петр Леонтьич осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!
— Хорошо, я вам дам, — сказал Модест Алексеич, подумав, — но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми.
И потянулись длинные периоды: «по мере того»... «исходя из того положения»... «ввиду только что сказанного», а бедный Петр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.
И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.
— Каждый человек должен иметь свои обязанности! — говорил им Модест Алексеич.
А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто от отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы.
II
Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29-го декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:
— Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.
И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux 1 и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.
Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:
— Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анюта! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. — Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!
Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.
— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом, — и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но... — он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.
Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.
«Как он мил, когда трезв!» — думала она.
Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился всё равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.
— Браво, браво!.. — говорили в публике.
Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже била королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.
— Очень рад, очень рад... — начал он. — А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, — продолжал он, подавая ей руку, — Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждет вас с нетерпением.
Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.
— Помогите нам, — сказала она в нос, нараспев. — Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?
Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто — и всё это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась в только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.
Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в grand rond 2 и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал — и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!
Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!
Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...
Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:
— Подите прочь, болван!
После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.»
На Пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.
— Значит, у вас теперь три Анны, — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, — одна в петлице, две на шее.
Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:
— Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.
Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...
А Аня всё каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и всё реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:
— Не надо, папочка... Будет, папочка...
------------------------------------------------------
1
драгоценности (франц.).
2
большой круг (франц.).
-----------------------------------------------------
Впервые рассказ А. Чехова «Анна на шее» был издан в октябре 1895 г. в «Русских ведомостях». При подготовке рассказа к изданию А. Маркса Чехов разделил его на 2 главы, внес много поправок и исправлений, придав сатирические черты образам Модеста Алексеевича и «его сиятельства» и углубив характеристику Анны.
Свернутый текст
Жанр произведения – лирико-драматический рассказ в традициях критического реализма. Художественными особенностями новеллы являются наличие нескольких сюжетных линий, плавное развитие действия, намеченность схемы всей жизни главных героев, парадоксальный поворот событий (обмен ролями главными героями), юмор в изображении характеров людей.
Анализ проблематики рассказа
Ведущая тема рассказа – социальное неравенство и его влияние на характеры и судьбы людей. Чехов исследует истоки проблемы, раскрывает сущность мира «жертв и хищников» - мира человеческих взаимоотношений, построенных на власти денег.
Проблематика произведения необычайно широка. Автор высмеивает такие пороки, как обывательщина, пошлость, карьеризм. Однако главной проблемой, затронутой писателем, остается нравственная деградация человека. В рассказе Анна обретает долгожданный успех, однако он оборачивается потерей духовных качеств – способности искренне любить и чувствовать. «Анна на шее» - история нравственного падения и оскудения человеческой души.
Сюжетно-композиционные особенности
Чехов расчленяет сюжет рассказа на 2 главы, соответствующие этапам жизни героини - униженному положению Анны и ее вознесению. Композиционно обе главы схожи: вначале изображается в деталях единичное событие (свадьба, бал), затем следует описание отрезка жизни, определяемого этим событием. Кульминацией рассказа служит сцена бала, где Анна предвкушает «предчувствие счастья». Развязка рассказа – изменение отношения героини к семье и отцу. Новелла замкнута в кольцо: параллелизм первой и финальной сцен ярче показывает эгоизм героини и ее разрыв со своей семьей.
В «Анне на шее» ярко прослеживается характерный чеховский прием – двуплановость композиции. В рассказе выделены две сюжетные линии: Анны и Модеста Алексеевича.
Линия мужа Анны – погоня за карьерой, страсть к чинам и наградам. При этом Модест Алексеич использует молодую жену для продвижения по служебной лестнице. Эта линия описана в сатирических тонах. В судьбе главной героини, раскрытой в грустно-ироничных тонах, выделены еще две линии – восходящая (внешний успех) и нисходящая (нравственное очерствение).
Обе линии главных персонажей завершаются исполнением желаний героев. При этом успех в обоих случаях достается дорогой ценой – утратой человеческого достоинства. Модест Алексеич получает орден, но попадает в полную зависимость от жены. Анна избавляется от униженности и страха перед мужем, попадает в шумный светский мир веселья и утех ценой загрубения души.
Система образов
Большая часть образов в рассказе решена в нарочито условной манере, придавая рассказу комедийный эффект. Модест Алексеич – гротескный образ чиновника, чьи человеческие интересы давно заменены карьерными. Артынов, похожий на Мефистофеля, вообще бессловесен, только глядит на Анну. Братья героини, Андрюша и Петя, произносят одну фразу в начале и в конце рассказа («Не надо, папочка…»). При создании образов Чехов использует лейтмотив: так, у отца Анны во всех эпизодах – «жалкое, доброе, виноватое лицо».
Писатель дает глубокую психологическую характеристику только главной героине – Анне, показывая ее характер в развитии. При этом Чехов прибегает к антитезе. Если в начале рассказа душевное состоянии героини характеризуется словами «несчастна, виноватая», то во второй части новеллы звучат прилагательные «гордая, свободная, самоуверенная». На протяжении всей новеллы автор подчеркивает свойственные Ане легкомыслие и изменчивость настроения, ее эмоциональную нестабильность. Девушка попадает в высшее общество с восторженной неразборчивостью, беззаботно стремясь получить все радости жизни. Именно эти черты приводят к эволюции героини и отходу от своей семьи.
Стилевое своеобразие
Особенности рассказа, написанного в художественном стиле, – обилие общелитературных мотивов, перенасыщенность нравственной лексикой, активное использование лейтмотива, антитезы.







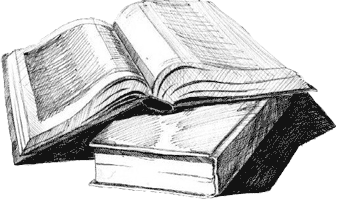 ЧИТАЕМ ЧЕХОВА
ЧИТАЕМ ЧЕХОВА 