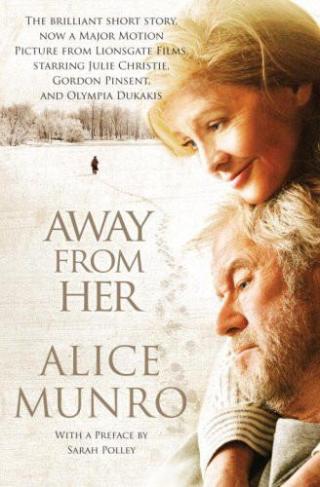«Слишком много счастья» Элис Манро: поэтика развода
Элис Манро — впервые на русском языке.
Лиза Биргер объясняет, почему признанную канадку до сих пор здесь не издавали и зачем ее надо читать.

По правде говоря, сборник «Слишком много счастья» меньше всего подходит для первого знакомства с прозой Элис Манро. Хотя бы потому, что в сборнике 2009 года писательница сама нарушает основные законы своей прозы. Законов этих, скажем, три: в центре рассказа должен стоять обыкновенный человек, чаще всего женщина, с ним должно случиться самое обыкновенное событие, например развод, и происходить это должно в настоящем времени и месте, чаще всего в той самой канадской провинции Онтарио, которую Манро прославила так же, как Фолкнер — американский Юг. Но уже в заглавном рассказе, героиней которого становится русский математик Софья Ковалевская, все эти правила нарушены — да и в прочих постоянно происходят всякие странности, которых Манро в своей прозе столько лет так старательно избегала. Но просто сборник слишком вовремя вышел — посередине между Нобелевкой и «Международным Букером» — и, очевидно, попался под горячую руку издателю, который не очень представлял, кто такая эта Манро и как ее читать.
Но и для читателя, понятное дело, главный вопрос будет не в том, о чем и как пишет Элис Манро, — до осени прошлого года он ничего о ней не слышал, и сегодня он откроет этот сборник, прежде всего желая знать, так ли уж она хороша для Нобелевской премии, заранее предвкушая, что автор не оправдает возложенных на него ожиданий. Ведь мы уже привыкли несправедливо считать, что Нобелевку дают не за литературные заслуги, а за местечковость, что «где?» и «о чем?» важнее, чем «как?». Тем более что в отечественных высоких литературных кругах Манро, ставшую за сорок лет карьеры абсолютной звездой англоязычного мира, игнорировали вполне сознательно. Так, главред журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, великолепный переводчик и редактор, на вопрос РИА «Новостей», стоит ли Манро Нобелевки, снисходительно процедил, что она «крепкий, но небольшой писатель», «автор длинных рассказов и повестей с некоторым феминистическим уклоном». И кажется, что одно в его представлении неотделимо от другого, что писатель «про женское» великим быть не может по умолчанию, что всякая попытка высокого полета увязнет у него в копошении быта.
Манро и правда с первого взгляда не походит на тех писателей, которых мы записали в короли современного рассказа. Она не обладает карверовской сверхспособностью вытащить суть человеческого существования из мелкой детали, увидеть в незначительном событии трагедию эсхиловского размаха. У нее все наоборот: крупный план, жизнь, развернутая во всем своем масштабе, — и писательской задачей становится ухватить в этой жизни самое важное, выделить основное событие и чувство или место, которое все объясняет. Ведя бесконечный внутренний монолог, ее герои (чаще, конечно, героини) как заезженную пластинку проигрывают внутри себя все это самое важное: воспоминания о детстве, о браке, о детях, о чем-то, увиденном однажды и затем не забытом. «В жизни человека бывает всего несколько мест — или всего одно, — где нечто произошло, а все остальные не в счет», — объясняют они. Это такая поверхность жизни, где сюжет опасно граничит со сплетней. Вот от этой женщины муж ушел — доверительно сообщает нам автор. Вот у этой сын в секту подался. А та вот, только глянь, до того хочет замуж, что в упор не видит, как ей изменяет любовник.
Впрочем, до сплетни повествование так никогда и не скатывается. Во многом потому, что Манро всегда говорит и показывает изнутри персонажа, и это превращает ее в сопереживающего рассказчика. «Произошла самая банальная катастрофа» — страдает брошенная мужем женщина о потерянной жизни. Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» —это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.
Интересно, что при всей любви Манро к большим сюжетам, ни одна из рассказанных ею историй не является окончательной, все они предполагают многоточие за финальной точкой. Терапевтический эффект ее прозы возникает оттого, что трагедия здесь сглаживается бесконечной чередой повторений: как бы ни сосредотачивался рассказ на главных событиях жизни, описываются они прежде всего через воспоминания героев и к моменту действия пережиты и приняты. На самом деле у рассказа Манро почти всегда есть две точки отсчета: заново переживаемое прошлое и хрупкое, ускользающее по мере проживания настоящее. Иными словами, это будет не «рассказ о женщине, от которой ушел муж», а «рассказ о женщине, от которой ушел муж и которая много лет спустя читает свою историю в рассказе». Не «история женщины, пережившей революцию», а «история женщины, которая побывала в самой гуще революционной борьбы и вспоминает о ней спустя годы, когда путешествует по Европе».
В каком-то смысле все эти тексты иллюстрируют заезженную в последние месяцы цитату Бродского про жизнь, которая, качнувшись влево, еще качнется вправо. Жизнь действительно качается. Так, вся история Софьи Ковалевской нужна здесь как будто для последних слов умирающей героини: «Слишком много счастья». Это счастье, обретенное в катастрофе, гарантировано не зыбким настоящим, но будущим и прошлым. Ради предчувствия этого счастья и стоит читать саму Манро, ничего, впрочем, не обещающую