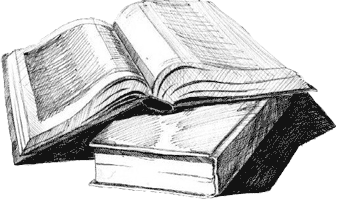 ЧИТАЕМ О.ГЕНРИ
ЧИТАЕМ О.ГЕНРИ
О'Генри
Дороги судьбы
Перевод М. Урнова
Передо мной лежат дороги,
Куда пойду?
Верное сердце, любовь как звезда, -
Они мне помогут везде и всегда
В бою обрести и как песню сложить
Мою судьбу
Из неопубликованных стихотворений
Давида Миньо.
Песня смолкла. Слова были Давида, мелодия - народная. Завсегдатаи
кабачка дружно аплодировали, так как молодой поэт платил за вино. Только
нотариус, господин Папино, прослушав стихи, покачал слегка головой, - он был
человек образованный и пил за свой счет.
Давид вышел на улицу, и ночной деревенский воздух освежил его голову,
затуманенную винными парами. Тогда он вспомнил утреннюю ссору с Ивонной и
свое решение покинуть ночью родной дом и отправиться в большой мир искать
признания и славы.
"Когда мои стихи будут у всех на устах, - взволнованно говорил он себе,
- она еще вспомнит жестокие слова, которые сказала мне сегодня".
Кроме гуляк в кабачке, все жители деревни уже спали. Давид прокрался в
свою комнатушку в пристройке к отцовскому дому и связал в узел свои скудные
пожитки. Перекинув его на палке через плечо, он вышел на дорогу, которая
вела из Вернуа.
Он миновал отцовское стадо, сбившееся на ночь в загоне, стадо овец,
которых он пас ежедневно, - они разбредались по сторонам, когда он писал
стихи на клочках бумаги. Он увидел свет, еще горевший в окне у Ивонны, и
тотчас его охватили сомнения. Этот свет, не означает ли он, что она не может
уснуть, что ее мучает раскаяние, и утром... Но нет! Решение принято. В
Вернуа ему делать нечего. Ни одна душа здесь не понимает его. Вперед по этой
дороге, навстречу своему будущему, своей судьбе.
Три лье через туманную, залитую лунным светом равнину тянулась дорога,
прямая, как борозда, проведенная плугом пахаря. В деревне считали, что
дорога ведет по крайней мере в Париж; шагая по ней, молодой поэт не раз
шептал про себя это слово. Никогда еще Давид не уходил так далеко от Вернуа.
ДОРОГА НАЛЕВО
Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее
пролегла другая дорога, большая и горная. Давид постоял немного в раздумье и
повернул налево.
В пыли этой большой дороги отпечатались следы колес недавно проехавшего
экипажа. Спустя полчаса показался и сам экипаж - громадная карета, завязшая
в ручье у подножья крутого холма. Кучер и форейторы кричали на лошадей и
дергали за поводья. На краю дороги стоял громадный мужчина, одетый в черное,
и стройная женщина, закутанная в длинный, легкий плащ.
Давид видел, что слугам не хватает сноровки. Недолго думая, он взял на
себя роль распорядителя. Он велел форейторам замолчать и налечь на колеса.
Понукать животных привычным для них голосом стал один кучер; сам Давид
уперся могучим плечом в задок кареты, и от дружного толчка она выкатилась на
твердую почву. Форейторы забрались на свои места.
С минуту Давид стоял в нерешительности. Мужчина в черном махнул рукой.
"Вы сядете в карету", - сказал он: голос был мощный, под стать всей фигуре,
но смягченный светским воспитанием. В нем сказывалась привычка повелевать.
Непродолжительные сомнения Давида были прерваны повторным приказанием. Давид
встал на подножку. Он смутно различил в темноте фигуру женщины на заднем
сиденье. Он хотел было сесть напротив, но мощный голос снова подчинил его
своей воле, "Вы сядете рядом с дамой!"
Мужчина в черном тяжело опустился на переднее сиденье. Карета стала
взбираться на холм. Дама сидела молча, забившись в угол. Давид не мог
определить, стара она или молода, но тонкий, нежный аромат, исходивший от ее
одежды, пленил воображение поэта, и он проникся уверенностью, что за
покровом тайны скрываются прелестные черты. Подобное происшествие часто
рисовалось ему в мечтах. Но ключа к этой тайне у него еще не было, - после
того как он сел в карету, его спутники не проронили ни слова.
Через час, заглянув в окно, Давид увидал, что они едут по улице
какого-то города. Вскоре экипаж остановился перед запертым и погруженным в
темноту домом; форейтор спрыгнул на землю и принялся неистово колотить в
дверь. Решетчатое окно наверху широко распахнулось, и высунулась голова в
ночном колпаке.
- Что вы беспокоите честных людей в этакую пору? Дом закрыт. Порядочные
путники не бродят по ночам. Перестаньте стучать и проваливайте.
- Открывай! - заорал форейтор. - Открой монсеньору маркизу де Бопертюи.
- Ах! - раздалось наверху. - Десять тысяч извинений, монсеньор. Кто ж
мог подумать... час такой поздний... Открою сию минуту, и весь дом будет в
распоряжении монсеньора.
Звякнула цепь, проскрипел засов, и дверь распахнулась настежь. На
пороге, дрожа от холода и страха, появился хозяин "Серебряной фляги",
полуодетый, со свечой в руке.
Давид вслед за маркизом вышел из кареты. "Помогите даме", - приказали
ему. Поэт повиновался. Помогая незнакомке сойти на землю, он почувствовал,
как дрожит ее маленькая ручка. "Идите в дом", - послышался новый приказ.
Они вошли в длинный обеденный зал таверны. Во всю длину его тянулся
большой дубовый стол. Мужчина уселся на стул на ближнем конце стола. Дама
словно в изнеможении опустилась на другой, у стены. Давид стоял и
раздумывал, как бы ему распроститься и продолжать свой путь.
- Монсеньор, - проговорил хозяин таверны, кланяясь до земли, - е-если
бы я з- знал, что б-бу-уду удостоен т-такой чести, все б-было бы готово к
вашему приезду. О-осмелюсь п-предложить вина и х-холодную дичь, а если
п-пожелаете...
- Свечей! - сказал маркиз, характерным жестом растопырив пальцы пухлой
холеной руки.
- С-сию минуту, монсеньор. - Хозяин таверны принес с полдюжины свечей,
зажег их и поставил на стол.
- Не соблаговолит ли мсье отпробовать бургундского, у меня есть
бочонок...
- Свечей! - сказал мсье, растопыривая пальцы.
- Слушаюсь... бегу... лечу, монсеньор.
Еще дюжина зажженных свечей заблестела в зале. Туловище маркиза глыбой
вздымалось над стулом. Он был с ног до головы одет в черное, если не считать
белоснежных манжет и жабо. Даже эфес и ножны его шпаги были черные. Вид у
него был высокомерный. Кончики вздернутых усов почти касались его глаз,
смотревших с презрительной усмешкой.
Дама сидела неподвижно, и теперь Давид видел, что она молода и красива
трогательной, чарующей красотой.
Громовый голос заставил его отвести взгляд от ее прелестного и
грустного лица.
- Твое имя и занятие?
- Давид Миньо. Я - поэт.
Усы маркиза потянулись к глазам.
- Чем же ты живешь?
- Я еще и пастух; я пас у отца овец, - ответил Давид, высоко подняв
голову, но щеки у него покрылись румянцем.
- Так слушай ты, пастух и поэт, какое счастье выпало тебе на долю. Эта
дама - моя племянница, мадемуазель Люси де Варенн. Она принадлежит к
знатному роду, и в ее личном распоряжении находятся десять тысяч франков
годового дохода. О ее красоте суди сам. Если всех этих ее достоинств вместе
взятых достаточно, чтобы пленить твое пастушье сердце, скажи слово, и она
станет твоей женой. Не перебивай меня. Сегодня вечером я отвез ее в замок
виконта де Вильмор, которому была обещана ее рука. Гости были в сборе;
священник ждал, готовый обвенчать ее с человеком, равным ей по положению и
состоянию. И вдруг у самого алтаря эта девица, на вид столь скромная и
послушная, накинулась на меня, как пантера, обвинила меня в жестокости и
злодействах и в присутствии изумленного священника нарушила слово, которое я
дал за нее. Я тут же поклялся десятью тысячами дьяволов, что она выйдет
замуж за первого, кто попадется на пути - будь то принц, угольщик или вор.
Ты, пастух, оказался первым. Мадемуазель должна обвенчаться сегодня ночью.
Не с тобой, так с другим. Даю тебе десять минут на размышление. Не трать
лишних слов и не досаждай мне вопросами. Десять минут, пастух, и они уже
бегут.
Маркиз громка забарабанил по столу белыми пальцами. Лицо его
превратилось в маску сосредоточенного ожидания. Своим видом он напоминал
огромный дом, в котором наглухо закрыты все окна и двери. Давид хотел было
что-то сказать, но при взгляде на вельможу слова застряли у него в горле. Он
подошел к даме и отвесил ей поклон.
- Мадемуазель, - сказал он и удивился, как легко текут его слова: ведь
казалось бы, такое изящество и красота должны были смутить его. - Вы
слышали: я назвал себя пастухом. Но в мечтах я иногда видел себя поэтом.
Если быть поэтом - значит любить красоту и поклоняться ей, то мечты мои
обретают крылья. Чем я могу служить вам, мадемуазель?
Девушка подняла на него горящие, скорбные глаза. Его открытое и
вдохновенное лицо, ставшее строгим в эту решающую минуту, его сильная и
стройная фигура и несомненное сочувствие во взгляде голубых глаз, а
возможно, и долго томившая ее тоска по ласковому, участливому слову так
взволновали ее, что у нее брызнули слезы.
- Сударь, - тихо проговорила она, - вы кажетесь мне искренним и добрым.
Это - мой дядя, брат моего отца и мой единственный родственник. Он любил мою
мать и ненавидит меня, потому что я на нее похожа. Он превратил мою жизнь в
сплошную пытку. Я страшусь одного его взгляда и никогда раньше не решалась
ослушаться его. Но сегодня вечером он хотел выдать меня за человека втрое
старше меня. Не осуждайте меня, сударь, за те неприятности, которые я
навлекла на вас. Вы, конечно, откажетесь совершить безумный поступок, к
которому он вас склоняет. Во всяком случае позвольте поблагодарить вас за
ваши великодушные слова. Со мной давно никто так не говорил.
В глазах поэта появилось нечто большее, чем великодушие. Видно, он был
истинным поэтом, потому что Ивонна оказалась забыта: нежная красота пленила
его своей свежестью и изяществом. Тонкий аромат, исходивший от нее, будил в
нем еще неиспытанные чувства. Он нежно посмотрел на нее, и она вся расцвела
под его ласковым взглядом.
- За десять минут, - сказал Давид, - я могу добиться того, чего с
радостью добивался бы многие годы. Сказать, что я жалею вас, мадемуазель,
значило бы сказать неправду, - нет, я люблю вас. Рассчитывать на взаимность
я еще не вправе, но дайте мне вырвать вас из рук этого злодея, и, как знать,
со временем любовь может прийти. Я думаю, что у меня есть будущее. Не вечно
я буду пастухом. А пока я стану любить вас всем сердцем и сделаю все, чтобы
ваша жизнь не была столь печальной. Решитесь вы доверить мне свою судьбу,
мадемуазель?
- О, вы жертвуете собой из жалости!
- Я люблю вас. Время истекает, мадемуазель.
- Вы раскаетесь и возненавидите меня.
- Я буду жить ради вашего счастья и чтобы стать достойным вас.
Ее изящная ручка скользнула из-под плаща и очутилась в его руке.
- Вручаю вам свою судьбу, - прошептала она, - и, быть может... любовь
придет скорей, чем вы думаете. Скажите ему. Когда я вырвусь из-под власти
его взгляда, я, может быть, сумею забыть все это.
Давид подошел к маркизу. Черная фигура пошевелилась, и насмешливые
глаза взглянули на большие стенные часы.
- Осталось две минуты. Пастуху понадобилось восемь минут, чтобы
решиться на брак с красавицей и богачкой! Ну что же, пастух, согласен ты
стать мужем этой девицы?
- Мадемуазель, - отвечал Давид, гордо выпрямившись, - оказала мне
честь, согласившись стать моей женой.
- Отлично сказано! - гаркнул маркиз. - У вас, господин пастух, есть
задатки вельможи. В конце концов мадемуазель могла вытянуть и худший жребий,
ну а теперь покончим с этим делом поскорей, - как только позволит церковь и
дьявол!
Он громко стукнул по столу эфесом шпаги. Вошел, дрожа всем телом,
хозяин таверны; он притащил еще свечей, в надежде, что угадал каприз
сеньора.
- Священника! - сказал маркиз. - И живо! Понял?
Чтоб через десять минут священник был тут, не то... Хозяин таверны
бросил свечи и убежал. Пришел священник, заспанный и взлохмаченный. Он
сочетал Давида Миньо и Люси де Варенн узами брака, сунул в карман золотой,
брошенный ему маркизом, и снова исчез во мраке ночи.
- Вина! - приказал маркиз, протянув к хозяину таверны зловеще
растопыренные пальцы. - Наполни бокалы! - сказал он, когда вино было подано.
В тусклом свете мерцающих свечей маркиз черной глыбой навис над столом,
полный злобы и высокомерия, и, казалось, воспоминания о старой любви
сочились ядом из его глаз, когда он смотрел на племянницу.
- Господин Миньо, - сказал он, поднимая бокал с вином, - прежде чем
пить, выслушайте меня. Вы женились на особе, которая исковеркает вашу жизнь.
В ее крови проклятое наследие самой черной лжи и гнусных преступлений. Она
обрушит на вашу голову позор и несчастье. В ее глазах, в ее нежной коже
сидит дьявол, он говорит ее устами, которые не погнушались обольстить
простого крестьянина. Вот залог вашей счастливой жизни, господин поэт.
Теперь пейте. Наконец-то, мадемуазель, я избавился от вас.
Маркиз выпил. Жалобный крик сорвался с губ девушки, словно ей внезапно
нанесли рану. Давид, с бокалом в руке, выступил на три шага вперед и
остановился перед маркизом. Сейчас едва ли кто принял бы его за пастуха.
- Только что, - спокойно проговорил он, - вы оказали мне честь, назвав
меня "господином". Могу я надеяться, что моя женитьба на мадемуазель в
некотором отношений приблизила меня к вашему рангу, скажем не прямо, но
косвенно, и дает мне право вести себя с монсеньором, как равный с равным в
одном небольшом деле, которое я задумал?
- Можешь надеяться, пастух, - презрительно усмехнулся маркиз.
- В таком случае, - сказал Давид, выплеснув вино из бокала прямо в
глаза, насмехавшиеся над ним, - быть может, вы соблаговолите драться со
мной.
Вельможа пришел в ярость, и громкое, как рев горна, проклятие
разнеслось по залу. Он выхватил из черных ножен шпагу и крикнул не успевшему
скрыться хозяину:
- Подать шпагу этому олуху!
Он повернулся к даме, засмеялся так, что у нее сжалось сердце, и
сказал:
- Вы доставляете мне слишком много хлопот, сударыня. За одну ночь я
должен выдать вас замуж и сделать вдовой
- Я не умею фехтовать, - сказал Давид и покраснел, сделав это
признание.
- Не умею фехтовать, - передразнил его маркиз. - Что же, мы, как
мужичье, будем лупить друг друга дубинами? Эй, Франсуа! Мои пистолеты!
Форейтор принес из экипажа два больших блестящих пистолета, украшенных
серебряной чеканкой. Маркиз швырнул один из них Давиду.
- Становись у того конца стола! - крикнул он. - Даже пастух может
спустить курок. Не всякий удостаивается чести умереть от пули де Бопертюи.
Пастух и маркиз стали друг против друга у противоположных концов
длинного стола. Хозяин таверны, обомлев от страха, судорожно шевелил
пальцами и бормотал:
- М-монсеньор, р-ради Христа! Не в моем доме!.. не проливайте крови...
вы разорите меня...
Угрожающий взгляд маркиза сковал ему язык.
- Трус! - вскричал маркиз де Бопертюи. - Перестань стучать зубами и
подай сигнал, если можешь.
Хозяин упал на колени. Он не мог произнести ни слова. Но жестами он,
казалось, умолял сохранить мир в его доме и добрую славу его заведению.
- Я подам сигнал, - отчетливо проговорила дама. Она подошла к Давиду и
нежно поцеловала его. Глаза ее сверкали, щеки покрылись румянцем Она встала
у стены, и по ее счету противники начали поднимать пистолеты.
- Un... Deux... trois!
Оба выстрела раздались так быстро один за другим, что пламя свечей
вздрогнуло только раз. Маркиз стоял, улыбаясь, опершись растопыренными
пальцами левой руки о край стола Давид по-прежнему держался прямо; он
медленно повернул голову, ища глазами жену. Потом, как платье падает с
вешалки, он рухнул на пол.
Тихо вскрикнув от ужаса и отчаяния, овдовевшая девушка подбежала к
Давиду и склонилась над ним. Она увидела его рану, подняла голову, и в ее
глазах появилась прежняя скорбь.
- В самое сердце, - прошептала она. - Его сердце!
- В карету! - загремел мощный голос маркиза. - День не успеет
забрезжить, как я отделаюсь от тебя. Сегодня ночью ты снова обвенчаешься, и
муж твой будет жить. С первым встречным, моя милая, кто б он ни был:
разбойник или пахарь. А если мы никого не встретим на дороге, ты
обвенчаешься с холопом, который откроет нам ворота. В карету!
Неумолимый маркиз, дама, снова закутанная в плащ, форейтор с
пистолетами в руках - все направились к ожидавшей их карете Удаляющийся стук
ее тяжелых колес эхом прокатился по сонной улице. В зале "Серебряной фляги"
обезумевший хозяин таверны ломал руки над мертвым телом поэта, а огни
двадцати четырех свечей колыхались и плясали на длинном столе.
ДОРОГА НАПРАВО
Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее
пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и
повернул направо.
Куда вела дорога, он не знал, он решил в эту ночь уйти от Вернуа
подальше. Пройдя одно лье, он поровнялся с большим замком, где, видимо,
только что кончилось какое-то торжество. Все окна были освещены; от больших
каменных ворот узором расходились следы, оставленные в пыли экипажами
гостей.
Еще три лье остались позади, и Давид утомился. Он вздремнул у края
дороги, на ложе из сосновых веток, а потом поднялся и опять зашагал по
незнакомому пути.
Так пять дней шел он по большой дороге; спал на мягких постелях,
приготовленных ему Природой, или на копнах сена, ел черный хлеб радушных
пахарей, пил из ручья или из щедрой пастушьей чашки.
Наконец, он перешел через большой мост и вступил в веселый город,
который увенчал терниями и лаврами больше поэтов, чем весь остальной мир.
Дыхание его участилось, когда Париж запел ему вполголоса приветственную
песнь - песнь перекликающихся голосов, шаркающих ног, стучащих колес.
Высоко под крышей старого дома на улице Конти поселился Давид и,
примостившись на табурете, принялся писать стихи. Некогда на этой улице жили
важные и знатные горожане, а теперь она давала приют тем, кто всегда
плетется по стопам разорения и упадка.
Дома здесь были большие и еще хранили печать былого величия, хотя во
многих из них не осталось ничего, кроме пауков и пыли. По ночам на улице
слышался стук клинков и крики гуляк, кочующих из таверны в таверну. Там, где
когда-то был чинный порядок, воцарился пьяный и грубый разгул. Но именно
здесь Давид нашел себе кров, доступный его тощему кошельку. Свет солнца и
свет свечи заставал его за пером и бумагой.
Однажды, после полудня, он возвращался из фуражирской вылазки в мир с
хлебом, творогом и бутылкой дешевого вина. Поднимаясь по мрачной лестнице,
он столкнулся - точнее сказать, наткнулся на нее, так как она неподвижно
стояла на ступеньке, - с молодой женщиной такой красоты, какую не рисовало
даже пылкое воображение поэта. Под ее длинным, темным распахнутым плащом
виднелось роскошное платье. В глазах отражались малейшие оттенки мысли. Они
казались то круглыми и наивными, как у ребенка, то длинными и влекущими, как
у цыганки. Приподняв одной рукой подол платья, она приоткрыла маленькую
туфельку на высоком каблучке и с развязавшимися лентами. Как она была
божественна! Ей не пристало гнуть спину, она была рождена, чтобы ласкать
собой глаз и повелевать!
Быть может, она заметила приближение Давида и ждала его помощи.
О! Она просит мсье извинить ее, она заняла собой всю лестницу! Но эта
туфелька... такая противная! Ну что с ней поделаешь! Все время
развязывается. О, если бы мсье был так любезен!
Пальцы поэта дрожали, когда он завязывал непослушные ленты. Он почуял
опасность и хотел бежать, но глаза у нее стали длинные и влекущие, как у
цыганки, и удержали его. Он прислонился к перилам, сжимая в руках бутылку
кислого вина.
- Вы были так добры, - улыбаясь, сказала она. - Мсье, вероятно, живет в
этом доме?
- Да, сударыня. Да... в этом доме, сударыня.
- Вероятно, на третьем этаже?
- Нет, сударыня, выше.
Женщина чуть раздраженно пошевелила пальцами.
- Простите. Это был нескромный вопрос. Надеюсь, мсье извинит меня?
Совершенно неприлично было спрашивать, где вы живете.
- Что вы, сударыня. Я живу...
- Нет, нет, нет; не говорите. Теперь я вижу, что допустила ошибку. Но
что я могу поделать: меня влечет к себе этот дом и все, что с ним связано.
Когда-то он был моим домом. Я часто прихожу сюда, чтобы помечтать о тех
счастливых днях. Пусть это будет мне оправданием.
- Вам нет нужды оправдываться... позвольте мне сказать вам, -
запинаясь, проговорил поэт. - Я живу на самом верху, в маленькой комнате,
там, где кончается лестница.
- В передней комнате?
- Нет, в задней, сударыня.
Послышалось что-то похожее на вздох облегчения.
- Не буду вас больше задерживать, мсье, - сказала она, и глаза у нее
были круглые и наивные. - Присматривайте получше за моим домом. Увы! Он мой
только в воспоминаниях. Прощайте, благодарю вас за вашу любезность.
Она ушла, оставив за собой память о своей улыбке и тонкий запах духов.
Давид поднялся по лестнице, как во сне. Сон прошел, но улыбка и запах
духов преследовали его и не давали ему покоя. Образ незнакомки вдохновил его
на элегии о чарующих глазках, песни о любви с первого взгляда, оды о дивном
локоне и сонеты о туфельке на маленькой ножке.
Видно, он был истинным поэтом, потому что Ивонна оказалась забытой.
Нежная красота пленила его своей свежестью и изяществом. Тонкий аромат,
исходивший от нее, будил в нем еще неиспытанные чувства.
Однажды вечером трое людей собрались за столом в комнате на третьем
этаже того же дома. Три стула, стол и свеча на нем составляли всю
обстановку. Один из трех был громадный мужчина, одетый в черное. Вид у него
был высокомерный. Кончики его вздернутых усов почти касались глаз,
смотревших с презрительной усмешкой. Напротив него сидела дама, молодая и
прелестная; ее глаза, которые могли быть то круглыми и наивными, как у
ребенка, то длинными и влекущими, как у цыганки, горели теперь честолюбием,
как у любого заговорщика. Третий был человек дела, смелый и нетерпеливый
вояка, дышащий огнем и сталью. Дама и великан в черном называли его
капитаном Деролем.
Капитан ударил кулаком по столу и сказал, сдерживая ярость:
- Сегодня ночью! Когда он поедет к полуночной мессе. Мне надоели
бессмысленные заговоры. Довольно с меня условных знаков, шифров, тайных
сборищ и прочей ерунды. Будем честными изменниками. Если Франция должна быть
избавлена от него, убьем его открыто, не загоняя в ловушки и западни.
Сегодня ночью, вот мое слово. И я подкреплю его делом. Я убью его
собственной рукой. Сегодня ночью, когда он поедет к мессе.
Дама нежно посмотрела на капитана. Женщина, даже став заговорщицей,
преклоняется перед безрассудной отвагой. Мужчина в черном подкрутил кончики
усов и сказал зычным голосом, смягченным светским воспитанием:
- Дорогой капитан, на этот раз я согласен с вами. Ждать больше нечего.
Среди дворцовой стражи достаточно преданных нам людей, можно действовать
смело.
- Сегодня ночью, - повторил капитан Дероль, снова ударив кулаком по
столу. - Вы слышали, что я сказал, маркиз: я убью его собственной рукой.
- В таком случае, - тихо сказал маркиз, - остается решить один вопрос.
Надо известить наших сторонников во дворце и сообщить им условный знак.
Самые верные нам люди должны сопровождать королевскую карету. Но кто сейчас
сумеет пробраться к южным воротам? Их охраняет Рибу; стоит доставить ему
наше письмо, и успех обеспечен.
- Я перешлю письмо, - сказала дама.
- Вы, графиня? - спросил маркиз, поднимая брови. - Ваша преданность
велика, мы это знаем, но...
- Послушайте! - воскликнула дама, вставая и опираясь рукою о стол. - В
мансарде этого дома живет юноша из деревни, бесхитростный, кроткий, как
овцы, которых он пас. Несколько раз я встречала его на лестнице. Опасаясь,
не живет ли он рядом с комнатой, в которой мы обычно встречаемся, я
заговорила с ним. Стоит мне захотеть, и он в моих руках. Он пишет стихи у
себя в мансарде и, кажется, мечтает обо мне. Он исполнит любое мое желание.
Письмо во дворец доставит он.
Маркиз встал со стула и поклонился.
- Вы не дали мне закончить фразу, графиня, - проговорил он. - Я хотел
сказать: ваша преданность велика, но ей не сравниться с вашим умом и
очарованием.
В то время как заговорщики вели эту беседу, Давид отделывал стихи,
посвященные его amourette d'escalier (1). Он услыхал робкий стук в дверь, и
сердце его сильно забилось. Открыв дверь, он увидел перед собой незнакомку.
Она тяжело дышала, будто спасалась от преследования, а глаза у нее были
круглые и наивные, как у ребенка.
- Мсье, - прошептала она, - меня постигло несчастье. Вы кажетесь мне
добрым и отзывчивым, и мне не к кому больше обратиться за помощью. Ах, как я
бежала, на улицах много повес, они пристают, не дают проходу! Мсье, моя мать
умирает. Мой дядя капитан королевской стражи. Надо, чтобы кто-нибудь
немедленно известил его. Могу я надеяться...
- Мадемуазель! - перебил Давид, глаза его горели желанием оказать ей
услугу. - Ваши надежды будут моими крыльями. Скажите, как мне найти его.
Дама вложила ему в руку запечатанное письмо.
- Ступайте к южным воротам, - помните, к южным, - и скажите страже:
"Сокол вылетел из гнезда". Вас пропустят, а вы подойдете к южному входу во
дворец. Повторите те же слова и отдайте письмо тому человеку, который
ответит: "Пусть ударит, когда захочет". Это - пароль, мсье, доверенный мне
моим дядей; в стране волнение, заговорщики посягают на жизнь короля, и
потому с наступлением ночи без пароля никого не подпускают и близко ко
дворцу. Если можете, мсье доставьте ему это письмо, чтобы моя мать смогла
увидеть его, прежде чем навеки закроются ее глаза.
- Я отнесу письмо! - с жаром сказал Давид. - Но могу ли я допустить,
чтобы вы одна возвращались домой в такой поздний час? Я...
- Нет, нет, спешите! Драгоценна каждая секунда. Когда-нибудь, -
продолжала она, и глаза у нее стали длинные и влекущие, как у цыганки, - я
постараюсь отблагодарить вас за вашу доброту.
Поэт спрятал письмо на груди и, перепрыгивая через ступеньки, побежал
вниз по лестнице. Когда он исчез, дама вернулась в комнату на третьем этаже.
Маркиз вопросительно поднял брови.
- Побежал, - ответила она, - он такой же глупый и быстроногий, как его
овцы.
Стол снова вздрогнул от удара кулака капитана Дероля.
- Сто тысяч дьяволов! - крикнул он. - Я забыл свои пистолеты! Я не могу
положиться на чужие!
- Возьмите этот, - сказал маркиз, вытаскивая из-под плаща огромный
блестящий пистолет, украшенный серебряной чеканкой. - Вернее быть не может.
Но будьте осторожны, на нем мой герб, а я на подозрении. Ну, пора. За эту
ночь мне надо далеко отъехать от Парижа. С рассветом я должен появиться у
себя в замке. Милая графиня, мы готовы следовать за вами.
Маркиз задул свечу. Дама, закутанная в плащ, и оба господина осторожно
сошли вниз и смешались с прохожими на узких тротуарах улицы Конти.
Давид спешил. У южных ворот королевского парка к его груди приставили
острую алебарду, но он отстранил ее словами: "Сокол вылетел из гнезда".
- Проходи, друг, - сказал стражник, - да побыстрее.
У южного входа во дворец его чуть было не схватили, но его mot de passe
(2) снова оказал магическое действие на стражников. Один из них вышел вперед
и начал:
"Пусть ударит..." Но тут что-то произошло, и стража смешалась. Какой-то
человек с пронизывающим взглядом и военной выправкой внезапно протиснулся
вперед и выхватил из рук Давида письмо. "Идемте со мной", - сказал он и
провел его в большой зал. Здесь он вскрыл конверт и прочитал письмо.
"Капитан Тетро! - позвал он проходившего мимо офицера, одетого в форму
мушкетеров. - Арестуйте и заточите в тюрьму стражу южного входа и южных
ворот. Замените ее надежными людьми". Давиду он опять сказал: "Идемте со
мной".
Он провел его через коридор и приемную в обширный кабинет, где в
большом кожаном кресле, одетый во все черное, в тяжком раздумье сидел
мрачный человек. Обращаясь к этому человеку, он сказал:
- Ваше величество, я говорил вам, что дворец кишит изменниками и
шпионами, как погреб крысами. Вы, ваше величество, считали, что это плод
моей фантазии. Но вот человек, проникший с их помощью во дворец. Он явился с
письмом, которое мне удалось перехватить. Я привел его сюда, чтобы вы, ваше
величество, убедились сами, что мое рвение отнюдь не чрезмерно.
- Я сам допрошу его, - отозвался король, шевельнувшись в своем кресле.
Он с трудом поднял отяжелевшие веки и мутным взором посмотрел на Давида.
Поэт преклонил колено.
- Откуда явился ты? - спросил король.
- Из деревни Вернуа, департамент Оры-эд-Луара,
- Что ты делаешь в Париже?
- Я... хочу стать поэтом, ваше величество.
- Что ты делал в Вернуа?
- Пас отцовских овец.
Король снова пошевелился, и глаза его посветлели.
- О! Среди полей?
- Да, ваше величество.
- Ты жил среди полей. Ты уходил на заре из дома, вдыхая утреннюю
прохладу, и ложился под кустом на траву. Стадо рассыпалось по склону холма;
ты пил ключевую воду; забравшись в тень, ел вкусный черный хлеб и слушал,
как в роще свистят черные дрозды. Не так ли, пастух?
- Да, ваше величество, - вздыхая, сказал Давид, - и как пчелы жужжат,
перелетая с цветка на цветок, а на холме поют сборщики винограда.
- Да, да, - нетерпеливо перебил король, - поют, разумеется, и сборщики
винограда; но черные дрозды! Ты слышал, как они свистят? Часто они пели в
роще?
- Нигде, ваше величество, они не поют так хорошо, как у нас в Вернуа. Я
пытался передать их трели в стихах, которые я написал.
- Ты помнишь эти стихи? - оживился король. - Давно я не слыхал черных
дроздов. Передать стихами их песню-это лучше, чем владеть королевством!
Вечером ты загонял овец в овчарню и в мире и покое ел свой хлеб. Ты помнишь
эти стихи, пастух?
- Вот они, ваше величества, - с почтительным рвением сказал Давид:
Глянь, пастух, твои овечки
Резво скачут по лугам;
Слышишь, ели клонит ветер,
Пан прижал свирель к губам.
Слышишь, мы свистим на ветках,
Видишь, к стаду мы летим,
Дай нам шерсти, наши гнезда
Обогреть...
- Ваше величество, - перебил резкий голос, - разрешите мне задать этому
рифмоплету несколько вопросов. Время не ждет. Прошу прощения, ваше
величество, если я слишком назойлив в моей заботе о вашей безопасности.
- Преданность герцога д'Омаль слишком хорошо испытана, чтобы быть
назойливой. - Король погрузился в кресло, и глаза его снова помутнели.
- Прежде всего, - оказал герцог, - я прочту вам письмо, которое я у
него отобрал.
"Сегодня годовщина смерти наследника престола. Если он поедет, по
своему обыкновению, к полуночной мессе молиться за упокой души своего сына,
сокол ударит на углу улицы Эспланад. Если таково его намерение, поставьте
красный фонарь в верхней комнате, в юго-западном углу дворца, чтобы сокол
был наготове".
- Пастух, - строго сказал герцог, - ты слышал, ЧТУ здесь написано. Кто
вручил тебе это письмо?
- Господин герцог, - просто сказал Давид. - Я вам отвечу. Мне дала его
дама. Она сказала, что ее мать больна и надо вызвать ее дядю к постели
умирающей. Мне не понятен смысл этого письма, но я готов поклясться, что
дама прекрасна и добра.
- Опиши эту женщину, - приказал герцог, - и расскажи, как она тебя
одурачила.
- Описать ее! - сказал Давид, и нежная улыбка осветила его лицо. - Где
найти те слова, которые могли бы совершить это чудо! Она... она соткана из
света солнца и мрака ночи. Она стройна, как ольха, и гибка, словно ива.
Поглядишь ей в глаза, и они мгновенно меняются: широко открытые, они вдруг
сощурятся и смотрят, как солнце сквозь набежавшие облака. Она появляется -
все сияет вокруг, она исчезает - и ничего нет, только аромат боярышника. Я
увидел ее на улице Конти, дом двадцать девять.
- Это дом, за которым мы следили, - сказал герцог, обращаясь к королю.
- Благодаря красноречию этого простака перед нами предстал портрет гнусной
графини Кебедо.
- Ваше величество и ваша светлость, - взволнованно начал Давид. -
Надеюсь, мои жалкие слова ни на кого не навлекут несправедливого гнева. Я
смотрел в глаза этой даме. Ручаюсь своей жизнью, она - ангел, что бы ни было
в этом письме.
Герцог пристально посмотрел на него.
- Я подвергну тебя испытанию, - сказал он, отчеканивая каждое слово. -
Переодетый королем, ты, в его карете, поедешь в полночь к мессе. Согласен ты
на это испытание?
Давид улыбнулся.
- Я смотрел ей в глаза, - повторил он. - Мне других доказательств не
надо. А вы действуйте по своему усмотрению.
В половине двенадцатого герцог д'Омаль собственными руками поставил
красный фонарь на окно в юго-западном углу дворца. За десять минут до
назначенного часа Давид, опираясь на руку герцога, с ног до головы
облаченный в королевскую одежду, прикрыв лицо капюшоном, проследовал из
королевских покоев к ожидавшей его карете. Герцог помог ему войти и закрыл
дверцу. Карета быстро покатила к собору.
В доме на углу улицы Эспланад засел капитан Тетро с двадцатью
молодцами, готовый ринуться на крамольников, как только они появятся. Но,
по-видимому, какие-то соображения заставили заговорщиков изменить свой план.
Когда королевская карета достигла улицы Кристоф, не доезжая одного квартала
до улицы Эспланад, из-за угла выскочил капитан Дероль со своей кучкой
цареубийц и напал на экипаж. Стража, охранявшая карету, оправившись от
замешательства, оказала яростное сопротивление Капитан Тетро, заслышав шум
схватки, поспешил со своим отрядом на выручку. Но в это время отчаянный
Дероль распахнул дверцу королевской кареты, приставил пистолет к груди
человека, закутанного в темный плащ, и выстрелил. С прибытием подкреплений
улица огласилась криками и лязгом стали; лошади испугались и понесли. На
подушках кареты лежало мертвое тело несчастного поэта и мнимого короля,
сраженного пулей из пистолета монсеньера маркиза де Бопертюи.
ГЛАВНАЯ ДОРОГА
Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек, ее
пролегла другая дорога, широкая и торная Давид постоял немного в раздумье и
присел отдохнуть у обочины.
Куда вели эти дороги, он не знал. Казалось, любая из них могла открыть
перед ним большой мир, полный опасных приключений и счастливых возможностей.
Давид сидел у обочины, и вдруг взгляд его упал на яркую звезду, которую они
с Ивонной называли своей. Тогда он вспомнил Ивонну и подумал о том, не
поступил ли он опрометчиво. Неужели несколько запальчивых слов заставят его
покинуть свой дом и Ивонну? Неужели любовь так хрупка, что ревность - самое
истинное доказательство любви - может ее разрушить! Сколько раз убеждался
он, что утро бесследно уносит легкую сердечную боль, возникшую вечером. Он
еще может вернуться, и ни один обитатель сладко спящей деревушки Вернуа
ничего не узнает. Сердце его принадлежит Ивонне, здесь он прожил всю жизнь,
здесь может он сочинять свои стихи и найти свое счастье.
Давид поднялся, и тревожные, сумасбродные мысли, не дававшие ему покоя,
развеялись. Твердым шагом направился он в обратный путь. Когда он добрался
до Вернуа, от его жажды скитаний ничего не осталось. Он миновал загон для
овец; заслышав шаги позднего прохожего, они шарахнулись и сбились в кучу, и
от этого знакомого домашнего звука на сердце у Давида потеплело. Тихонько
поднялся он в свою комнатку и улегся в постель, благодарный судьбе за то,
что эта ночь не застигла его в горьких странствиях по неведомым дорогам.
Как хорошо понимал он сердце женщины! На следующий вечер Ивонна пришла
к колодцу, где собиралась молодежь, чтобы кюре не оставался без дела.
Краешком глаза девушка искала Давида, хотя сжатый рот ее выражал
непреклонность Давид перехватил ее взгляд, не испугался сурового рта, сорвал
с него слово примирения, а потом, когда они вместе возвращались домой, - и
поцелуй.
Через три месяца они поженились. Отец Давида был отличным хозяином и
дела его шли на славу. Он задал такую свадьбу, что молва о ней разнеслась на
три лье в окружности. И жениха и невесту очень любили в деревне. По улице
прошла праздничная процессия, на лужайке были устроены танцы, а из города
Дре для увеселения гостей прибыли театр марионеток и фокусник.
Прошел год, и умер отец Давида Давид получил в наследство дом и овечье
стадо. Самая пригожая и ловкая хозяйка в деревне тоже принадлежала ему. Ух,
как сверкали на солнце ведра и медные котлы Ивонны! Взглянешь, проходя мимо,
и ослепнешь от блеска. Но не закрывайте глаз, идите смело, один только вид
сада Ивонны, с его искусно разделанными веселыми клумбами, сразу возвратит
вам зрение. А песни Ивонны - они доносились даже до старого каштана, что
раскинулся над кузницей папаши Грюно.
Но наступил однажды день, когда Давид вытащил лист бумаги из давно не
открывавшегося ящика и принялся грызть карандаш. Снова пришла весна и
прикоснулась к его сердцу Видно, он был истинным поэтом, потому что Ивонна
оказалась почти совсем забытой. Все существо Давида заполнило колдовское
очарование обновленной земли. Аромат лесов и цветущих долин странно тревожил
его душу. Прежде он с утра уходил в луга со своим стадом и вечером
благополучно пригонял его домой. Теперь же он ложился в тени куста и начинал
нанизывать строчки на клочках бумаги. Овцы разбредались, а волки, приметив,
что там, где стихи даются трудно, баранина достается легко, выходили из леса
и похищали ягнят.
Стихов становилось у Давида все больше, а овец - все меньше. Цвет лица
и характер у Ивонны испортились, речь огрубела. Ведра и котлы ее потускнели,
зато глаза засверкали злым блеском. Она объявила поэту, что его безделье
губит их стадо и разоряет все хозяйство. Давид нанял мальчика караулить
стадо, заперся в маленькой чердачной комнатке и продолжал писать стихи.
Мальчик тоже оказался по натуре поэтом, но, не умея в стихах выражать свои
чувства, проводил время в мечтательной дремоте. Волки не замедлили
обнаружить, что стихи и сон - по существу одно и то же, и стадо неуклонно и
быстро сокращалось. С той же быстротой ухудшался характер Ивонны. Иногда она
останавливалась посередине двора и принималась осыпать громкой бранью
Давида, сидевшего под окном на своем чердаке. И крики ее доносились даже до
старого каштана, что раскинулся над кузницей папаши Грюно.
Господин Папино - добрый, мудрый нотариус, вечно совавший свой нос в
чужие дела, видел все это Он пришел к Давиду, подкрепился основательной
понюшкой табака и произнес следующее:
- Друг мой Миньо! В свое время я поставил печать на брачном
свидетельстве твоего отца. Мне было бы очень тягостно заверять документ,
означающий банкротство его сына. Но именно к этому идет дело. Я говорю с
тобой, как старый друг. Выслушай меня. Насколько я могу судить, тебя влечет
только поэзия. В Дре у меня есть друг - господин Бриль, Жорж Бриль. Дом его
весь заставлен и завален книгами, среди которых он расчистил себе маленький
уголок для жилья. Он - человек ученый, каждый год бывает в Париже, сам
написал несколько книг Он может рассказать, когда были построены катакомбы,
и как люди узнали названия звезд, и почему у кулика длинный клюв. Смысл и
форма стиха для него так же понятны, как для тебя - блеянье овец. Я дам тебе
письмо к нему, и он прочтет твои стихи. И тогда ты узнаешь, стоит ли тебе
писать, или лучше посвятить свое время жене и хозяйству.
- Пишите письмо, - отвечал Давид. - Жаль, что вы раньше не заговорили
со мной об этом.
На рассвете следующего дня он шел по дороге, ведущей в Дре, с
драгоценным свертком стихов подмышкой. В полдень он отряхнул пыль со своих
сапог у дверей дома господина Бриля. Этот ученый муж вскрыл печать на письме
господина Папино и, сквозь сверкающие очки, поглотил его содержание, как
солнечные лучи поглощают влагу. Он ввел Давида в свой кабинет и усадил его
на маленьком островке, к которому со всех сторон подступало бурное море
книг.
Господин Бриль был добросовестным человеком. Он и глазом не моргнул,
заметив увесистую рукопись в четыре пальца толщиной. Он разгладил пухлый
свиток на колене и начал читать. Он не пропускал ничего, вгрызаясь в кипу
бумаги, как червь вгрызается в орех в поисках ядра.
Между тем Давид сидел на своем островке, с трепетом озирая бушующие
вокруг него волны литературы. Книжное море ревело в его ушах. Для плавания
по этому морю у него не было ни карты, ни компаса. Наверно, половина всех
людей в мире пишет книги, решил Давид.
Господин Бриль добрался до последней страницы. Он снял очки и протер их
носовым платком.
- Как чувствует себя мой друг Папино? - осведомился он.
- Превосходно, - ответил Давид.
- Сколько у вас овец, господин Миньо?
- Вчера я насчитал триста девять. Моему стаду не посчастливилось.
Раньше в нем было восемьсот пятьдесят овец.
- У вас есть жена и дом, и вы жили в довольстве. Овцы давали вам все,
что нужно Вы уходили с ними в поля, дышали свежим, бодрящим воздухом, и
сладок был хлеб, который вы ели. Вам оставалось только глядеть за своим
стадом и, отдыхая на лоне природы, слушать, как в соседней роще свистят
черные дрозды. Я пока что не отклонился от истины?
- Все это было так, - ответил Давид.
- Я прочел все ваши стихи, - продолжал господин Бриль, блуждая взором
по своему книжному морю и словно высматривая парус на горизонте. - Поглядите
в окно, господин Миньо, и скажите мне, что вы видите вон на том дереве.
- Я вижу ворону, - отвечал Давид, посмотрев, куда ему было указано.
- Вот птица, - сказал господин Бриль, - которая поможет мне исполнить
мой долг. Вы знаете эту птицу, господин Миньо, она считается философом среди
пернатых. Ворона счастлива, потому что покорна своей доле. Нет птицы более
веселой и сытой, чем ворона с ее насмешливым взглядом и походкой вприпрыжку.
Поля дают ей все, что она пожелает. Никогда она не горюет о том, что
оперение у нее не так красиво, как у иволги. Вы слышали, господин Миньо,
каким голосом одарила ее природа? И вы думаете, соловей счастливее?
Давид встал. Ворона хрипло каркнула за окном.
- Благодарю вас, господин Бриль, - медленно произнес он. - Значит,
среди всего этого вороньего карканья не прозвучало ни единой соловьиной
ноты?
- Я бы не пропустил ее, - со вздохом ответил господин Бриль. - Я прочел
каждое слово. Живите поэзией, юноша, и не пытайтесь больше писать.
- Благодарю вас, - повторил Давид. - Пойду домой, к моим овцам.
- Если вы согласитесь пообедать со мной, - сказал книжник, - и
постараетесь не огорчаться, я подробно изложу вам мою точку зрения.
- Нет, - сказал Давид, - мне надо быть в поле и каркать на моих овец.
И со свертком стихов подмышкой он побрел обратно в Вернуа. Придя в
деревню, он завернул в лавку Циглера - армянского еврея, который торговал
всякой всячиной, попадавшей ему в руки.
- Друг, - сказал Давид, - волки таскают у меня овец из стада. Мне нужно
какое- нибудь огнестрельное, оружие. Что вы можете предложить мне?
- Несчастливый у меня сегодня день, друг Миньо, - отвечал Циглер,
разводя руками. - Придется, видно, отдать вам за бесценок великолепное
оружие. Всего лишь на прошлой неделе я приобрел у бродячего торговца целую
повозку разных вещей, которые он купил на распродаже имущества одного
знатного вельможи, я не знаю его титула. Этот господин был отправлен в
ссылку за участие в заговоре против короля, а замок его и все достояние -
проданы с молотка по приказу короны. Я получил и кое-что из оружия, -
превосходнейшие вещицы. Вот пистолет - о, это оружие, достойное принца! Вам
он обойдется всего лишь в сорок франков, друг Миньо, и пусть я потеряю на
этом деле десять франков. Но, может быть, вам требуется аркебуза...
- Пистолет мне подойдет, - отвечал Давид, бросая деньги на прилавок. -
Он заряжен?
- Я сам заряжу его, - сказал Циглер, - а если вы добавите еще десять
франков, дам вам запас пороха и пуль.
Давид сунул пистолет за пазуху и направился домой. Ивонны не было, в
последнее время она часто уходила к соседкам. Но в кухонном очаге еще тлел
огонь. Давид приоткрыл печную дверцу и кинул сверток со стихами на красные
угли. Бумага вспыхнула, пламя взвилось, и в трубе раздался какой-то
странный, хриплый звук.
- Карканье вороны, - сказал поэт.
Он поднялся на свой чердак и захлопнул дверь. В деревне стояла такая
тишина, что множество людей услышало грохот выстрела из большого пистолета.
Жители толпой бросились к дому Давида и, толкаясь, побежали на чердак,
откуда тянулся дымок.
Мужчины положили тело поэта на постель, кое-как прикрыв разодранные
перышки несчастной вороны. Женщины трещали без умолку, состязаясь в
выражении сочувствия. Несколько соседок побежали сообщить печальную весть
Ивонне.
Господин Папино, любознательный нос которого привел его на место
происшествия одним из первых, подобрал с пола пистолет и со смешанным
выражением скорби и восхищения стал разглядывать серебряную оправу.
- На этом пистолете, - вполголоса заметил он кюре, отводя его в
сторону, - фамильный герб монсеньера маркиза де Бопертюи.
-------------------------------------------------------------
1) - Случайная, мимолетная любовь (франц.).
2) - Пароль (франц.).
Обращение Джимми Валентайна
Надзиратель вошел в сапожную мастерскую, где Джимми Валентайн усердно
тачал заготовки, и повел его в тюремную канцелярию. Там смотритель тюрьмы
вручил Джимми помилование, подписанное губернатором в это утро. Джимми взял
его с утомленным видом. Он отбыл почти десять месяцев из четырехлетнего
срока, хотя рассчитывал просидеть не больше трех месяцев. Когда у
арестованного столько друзей на воле, сколько у Джимми Валентайна, едва ли
стоит даже брить ему голову.
- Ну, Валентайн, - сказал смотритель, - завтра утром вы выходите на
свободу. Возьмите себя в руки, будьте человеком. В душе вы парень неплохой.
Бросьте взламывать сейфы, живите честно.
- Это вы мне? - удивленно спросил Джимми. - Да я в жизни не взломал ни
одного сейфа.
- Ну да, - улыбнулся смотритель, - разумеется. Посмотрим все-таки. Как
же это вышло, что вас посадили за кражу в Спрингфилде? Может, вы не захотели
доказывать свое алиби из боязни скомпрометировать какую-нибудь даму из
высшего общества? А может, присяжные подвели вас по злобе? Ведь с вами,
невинными жертвами, иначе не бывает.
- Я? - спросил Джимми в добродетельном недоумении. - Да что вы! Я и в
Спрингфилде никогда не бывал!
- Отведите его обратно, Кронин, - улыбнулся смотритель, - и оденьте как
полагается. Завтра в семь утра вы его выпустите и приведете сюда. А вы лучше
обдумайте мой совет, Валентайн.
На следующее утро, в четверть восьмого, Джимми стоял в тюремной
канцелярии. На нем был готовый костюм отвратительного покроя и желтые
скрипучие сапоги, какими государство снабжает всех своих подневольных
гостей, расставаясь с ними.
Письмоводитель вручил ему железнодорожный билет и бумажку в пять
долларов, которые, как полагал закон, должны были вернуть Джимми права
гражданства и благосостояние. Смотритель пожал ему руку и угостил его
сигарой. Валентайн, N 9762, был занесен в книгу под рубрикой "Помилован
губернатором", и на солнечный свет вышел мистер Джеймс Валентайн.
Не обращая внимания на пение птиц, волнующуюся листву деревьев и запах
цветов, Джимми направился прямо в ресторан. Здесь он вкусил первых радостей
свободы в виде жаренного цыпленка и бутылки белого вина. За ними последовала
сигара сортом выше той, которую он получил от смотрителя. Оттуда он, не
торопясь, проследовал на станцию железной дороги. Бросив четверть доллара
слепому, сидевшему у дверей вокзала, он сел на поезд. Через три часа Джимми
высадился в маленьком городке, недалеко от границы штата. Войдя в кафе
некоего Майка Долана, он пожал руку хозяину, в одиночестве дежурившему за
стойкой.
- Извини, что мы не могли сделать этого раньше, Джимми, сынок, сказал
Долан. - Но из Спрингфилда поступил протест, и губернатор было заартачился.
Как ты себя чувствуешь?
- Отлично, - сказал Джимми. - Мой ключ у тебя?
Он взял ключ и, поднявшись наверх, отпер дверь комнаты в глубине дома.
Все было так, как он оставил уходя. На полу еще валялась запонка от
воротничка Бена Прайса, сорванная с рубашки знаменитого сыщика в ту минуту,
когда полиция набросилась на Джимми и арестовала его.
Оттащив от стены складную кровать, Джимми сдвинул в сторону одну
филенку и достал запыленный чемоданчик. Он открыл его и любовно окинул
взглядом лучший набор отмычек в Восточных штатах. Это был полный набор,
сделанный из стали особого закала: последнего образца сверла, резцы, перки,
отмычки, клещи, буравчики и еще две-три новинки, изобретенные самим Джимми,
которыми он очень гордился. Больше девятисот долларов стоило ему изготовить
этот набор в... словом, там, где фабрикуются такие вещи для людей его
профессии.
Через полчаса Джимми спустился вниз и прошел через кафе. Теперь он был
одет со вкусом, в отлично сшитый костюм, и нес в руке вычищенный чемоданчик.
- Что-нибудь наклевывается? - сочувственно спросил Майк Долан.
- У меня? - удивленно переспросил Джимми. - Не понимаю. Я представитель
Объединенной нью-йоркской компании рассыпчатых сухарей и дробленой пшеницы.
Это заявление привело Майка в такой восторг, что Джимми непременно
должен был выпить стакан содовой с молоком. Он в рот не брал спиртных
напитков.
Через неделю после того, как выпустили заключенного Валентайна, N 9762,
было совершено чрезвычайно ловкое ограбление сейфа в Ричмонде, штат Индиана,
причем виновник не оставил после себя никаких улик. Украли всего-навсего
каких-то восемьсот долларов. Через две недели был без труда очищен
патентованный, усовершенствованный, застрахованный от взлома сейф в
Логанспорте на сумму в полторы тысячи долларов звонкой монетой; ценные
бумаги и серебро остались нетронутыми. Тогда делом начали интересоваться
ищейки. После этого произошло вулканическое извержение старого банковского
сейфа в Джефферсон-сити, причем из кратера вылетело пять тысяч долларов
бумажками. Убытки теперь были настолько велики, что дело оказалось достойным
Бена Прайса. Путем сравления было установлено поразительное сходство методов
во всех этих случаях. Бен Прайс, побывав на местах преступления, объявил во
всеуслышание:
- Это почерк Франта - Джимми Валентайна. Опять взялся за свое.
Посмотрите на этот секретный замок - выдернут легко, как редиска в сырую
погоду. Только у него есть такие клещи, которыми можно это сделать. А
взгляните, как чисто пробиты задвижки! Джимми никогда не сверлит больше
одного отверстия. Да, конечно, это мистер Валентайн. На этот раз он отсидит
сколько полагается, без всяких дострочных освобождений и помилований. Дурака
валять нечего!
Бену Прайсу были известны привычки Джимми. Он изучил их, расследуя
спрингфилдское дело. Дальние переезды, быстрые исчезновения, отсутствие
сообщников и вкус к хорошему обществу - все это помогало Джимми Валентайну
ускользать от возмездия. Разнесся слух, что по следам неуловимого взломщика
пустился Бен Прайс, и остальные владельцы сейфов, застрахованных от взлома,
вздохнули свободнее.
В один прекрасный день Джимми Валентайн со своим чемоданчиком вышел из
почтовой кареты в Элморе, маленьком городке в пяти милях от железной дороги,
в глубине штата Арканзас, среди зарослей карликового дуба. Джимми, похожий
на студента-спортсмена, приехавшего домой на каникулы, шел по дощатому
тротуару, направляясь к гостинице.
Молодая девушка пересекла улицу, обогнала Джимми на углу и вошла в
дверь, над которой висела вывеска, "Городской банк". Джимми
Валентайн заглянул ей в глаза, забыл, кто он такой, и стал другим человеком.
Девушка опустила глаза и слегка покраснела. В Элморе не часто встречались
солодые люди с манерами и внешностью Джимми.
Джимми схватил за шиворот мальчишку, который слонялся у подъезда банка,
словно акционер, и начал расспрашивать о городе, время от времени скармливая
ему десятицентовые монетки. Вскоре молодая девушка опять появилась в дверях
банка и пошла по своим делам, намеренно игнорируя существование молодого
человека с чемоданчиком.
- Это, кажется, мисс Полли Симпсон? - спросил Джимми, явно хитря.
- Да нет, - ответил мальчишка, - это Аннабел Адамс. Ее папа банкир. А
вы зачем приехали в Элмор? Это у вас золотая цепочка? Мне скоро подарят
бульдога. А еще десять центов у вас есть?
Джимми пошел а "Отель плантаторов", записался там под именем
Ральфа Д.Спенсера и взял номер. Облокотившись на конторку он сообщил
регистратору о своих намерениях. Он приехал в Элмор на жительство, хочет
заняться коммерцией. Как теперь у них в городе с обувью? Он подумывает
насчет обувной торговли. Есть какие-нибудь шансы?
Костюм и манеры Джимми произвели впечатление на конторщика. Он сам был
законодателем мод для не густо позолоченной молодежи Элмора, но теперь
понял, чего ему не хватает. Стараясь сообразить, как именно Джимми
завязывает свой галстук, он почтительно давал ему информацию.
Да, по обувной части шансы должны быть. В городе нет магазина обуви. Ею
торгуют универсальные и мануфактурные магазины. Нужно надеяться, что мистер
Спенсер решит поселиться в Элморе. Он сам увидит, что у них в гроде жить
приятно, народ здесь очень общительный.
Мистер Спенсер решил остановиться в городе на несколько дней и
осмотреться для начала. Нет, звать мальчика не нужно. Чемодан довольно
тяжелый, он донесет его сам.
Мистер Ральф Спенсер, феникс, возникший из пепла Джимми Валентайна,
охваченного огнем внезапно вспыхнувшей и преобразившей его любви, остался в
Элморе и преуспел. Он открыл магазин обуви и обзавелся клиентурой.
В обществе он тоже имел успех и приобрел много знакомых. И того, к чему
стремилось его сердце, он сумел добиться. Он познакомился с мисс Аннабел
Адамс и с каждым днем все больше пленялся ею.
К концу года положение мистера Ральфа Спенсера было таково: он приобрел
уважение общества, его торговля обувью процветала, через две недели он
должен был жениться на мисс Аннабел Адамс. Мистер Адамс, типичный
провинциальный банкир, благоволил к Спенсеру. Аннабел гордилась им не
меньше, чем любила его. В доме у мистера Адамса и у замужней сестры Аннабел
он стал своим человеком, как будто уже вошел в семью.
И вот однажды Джимми заперся в своей комнате и написал следующее
письмо, которое потом было послано по надежному адресу одному из его старых
друзей в Сент-Луисе:
"Дорогой друг!
Мне надо, чтобы в будущую среду к девяти часам вечера ты был у
Салливана в Литл-Рок. Я хочу, чтобы ты ликвидировал для меня кое-какие дела.
Кроме того, я хочу подарить тебе мой набор инструментов. Я знаю, ты ему
обрадуешься - другого такого не достать и за тысячу долларов. Знаешь, Билли,
я бросил старое вот уже год. Я открыл магазин. Честно зарабатываю на жизнь,
через две недели женюсь: моя невеста - самая лучшая девушка на свете. Только
так и можно жить, Билли, - честно. Ни одного доллара чужих денег я теперь и
за миллион не возьму. После свадьбы продам магазин и уеду на Запад - там
меньше опасности, что всплывут старые счеты. Говорю тебе, Билли, она ангел.
Она в меня верит, и я ни за что на свете не стал бы теперь мошенничать. Так
смотри же, приходи к Салли, мне надо тебя видеть. Набор я захвачу с собой.
Твой старый приятель Джимми".
В понедельник вечером, после того как Джимми написал это письмо, Бен
Прайс, никем не замеченный, въехал в Элмор в наемном кабриолете. Он не спеша
прогулялся по городу и разузнал все, что ему нужно было знать. Из окна
аптеки напротив обувной лавки он как следует рассмотрел Ральфа Д.Спенсера.
- Хотите жениться на дочке банкира, Джимми? - тихонько сказал Бен. - Не
знаю, не знаю, право!
На следующее утро Джимми завтракал у Адамсов. В этот день он собирался
поехать в Литл-Рок, чтобы заказать себе костюм к свадьбе и купить что-нибудь
в подарок Аннабел. Это в первый раз он уезжал из города, с тех пор как
поселился в нем. Прошло уже больше года после того, как он бросил свою
"профессию", и ему казалось, что теперь модно уехать, ничем не
рискуя.
После завтрака все вместе, по-семейному, отправились в центр города -
мистер Адамс, Аннабел, Джимми и замужняя сестра Аннабел с двумя девочками
пяти и девяти лет. Когда они проходили мимо гостиницы, где до сих пор жил
Джимми, он поднялся к себе в номер и вынес оттуда чемоданчик. Потом пошли
дальше, к банку. Там Джимми Валентайна дожидались запряженный экипаж и Долф
Гибсон, который должен был отвести его на станцию железной дороги.
Все вошли в помещение банка, за высокие перила резного дуба, и Джимми
со всеми вместе, так как будущему зятю мистера Адамса были рады везде.
Конторщикам льстило, что им кланяется любезный молодой человек, который
собирается жениться на мисс Аннабел. Джимми поставил свой чемоданчик на пол.
Аннабел, сердце которой было переполнено счастьем и буйным весельем
молодости, надела шляпу Джимми и взялась рукой за чемоданчик.
- Хороший из меня выйдет вояжер? - спросила Аннабел. - Господи, Ральф,
как тяжело! Точно он набит золотыми слитками.
- Тут никелированные рожки для обуви, - спокойно отвечал Джимми, - я их
собираюсь вернуть. Чтобы не было лишних расходов, думаю отвезти их сам. Я
сиановлюсь ужасно экономен.
В элморском банке только что оборудовали новую кладовую с сейфом.
Мистер Адамс очень гордился ею и всех и каждого заставлял осматривать ее.
Кладовая была маленькая, но с новой патентованной дверью. Ее замыкали три
тяжелых стальных засова, которые запирались сразу одним поворотом ручки и
отпирались при помощи часового механизма. Мистер Адамс, сияя улыбкой,
объяснил действие механизма мистеру Спенсеру, который слушал вежливо, но,
видимо, не понимал сути дела. Обе девочки, Мэй и Агата, были в восторге от
сверкающего металла, забавных часов и кнопок.
Пока все были этим заняты, в банк вошел небрежной походкой Бен Прайс и
стал, облокотившись на перила и как бы нечаянно заглядывая внутрь. Кассиру
он сказал, что ему ничего не нужно, он только хочет подождать одного
знакомого.
Вдруг кто-то из женщин вскрикнул, и поднялась суматоха. Незаметно для
взрослых девятилетняя Мэй, разыгравшись, заперла Агату в кладовой. Она
задвинула засовы и повернула ручку комбинированного замка, как только что
сделал у нее на глазах мистер Адамс.
Старый банкир бросился к ручке двери и начал ее дергать.
- Дверь нельзя открыть, - простонал он. - Часы не были заведены и
соединительный механизм не установлен.
Мать Агаты опять истерически вскрикнула.
- Тише! - произнес мистер Адамс, поднимая дрожащую руку. - Помолчите
минуту. Агата! - позвал он как можно громче. - Слушай меня!
В наступившей тишине до них едва донеслись крики девочки, обезумевшей
от страха в темной кладовой.
- Деточка моя дорогая! - вопила мать. - Она умрет от страха! Откройте
двеь! Ах, взломайте ее! Неужели вы, мужчины, ничего не можете сделать?
- Тлько в Литл-Рок есть человек, который может открыть эту дверь, ближе
никого не найдется, - произнес мистер Адамс нетвердым голосом. - Боже мой!
Спенсер, что нам делать? Девочка... ей не выдержать долго. Там не хватит
воздуха, а кроме того, с ней сделаются судороги от испуга.
Мать Агаты, теряя рассудок, колотила в дверь кулаками. Кто-то
необдуманно предложил пустить в ход динамит. Аннабел повернулась к Джимми, в
ее больших глазах вспыхнула тревога, но она еще не отчаивалась. Женщине
всегда кажется, что нет ничего невозможного или непосильного для мужчины,
которого она боготворит.
- Не можете ли вы что-нибудь сделать, Ральф? Ну, попробуйте!
Он взглянул на нее, и странная, мягкая улыбка скользнула по его губам и
засветилась в глазах.
- Аннабел, - сказал он, - подарите мне эту розу.
Едва веря своим ушам, она отколола розовый бутон на груди и протянула
ему.
Джимми воткнул розу в жилетный карман, сбросил пиджак и засучил рукава.
После этого Ральф Д. Спенсер перестал существовать, и Джимми Валентайн занял
его место.
- Отойдите подальше от дверей, все отойдите! - кратко скомандовал он.
Джимми поставил свой чемоданчик на стол и раскрыл его. С этой минуты он
перестал сознавать чье бы то ни было присутствие. Он быстро и аккуратно
разложил странные блестящие инструменты, тихо насвистывая про себя, как
всегда делал за работой. Все остальные смотрели на него, словно
заколдованные, в глубоком молчании, не двигаясь с места.
Уже через минуту любимое сверло Джимми плавно вгрызалось в сталь. Через
десять минут, побив собственные рекорды, он отодвинул засовы и открыл дверь.
Агату, почти в обмороке, но живую и невредимую, подхватила на руки
мать.
Джимми Валентайн надел пиджак и, выйдя из-за перил, направился к
дверям. Ему показалось, что далекий, когда-то знакомый голос слабо позвал
его: "Ральф!" Но он не остановился.
В дверях какой-то крупный мужчина почти загородил ему дорогу.
- Здравствуй, Бен! - сказал Джимми все с той же необыкновенной улыбкой.
- Добрался-таки до меня! Ну что ж, пойдем. Теперь, пожалуй, уже все равно.
И тут Бен Прайс повел себя довольно странно.
- Вы, наверное, ошиблись, мистер Спенсер, - сказал он. - По-моему, мы с
вами незнакомы. Вас там, кажется, дожидается экипаж.
И Бен Прайс повернулся и зашагал по улице.

 США
США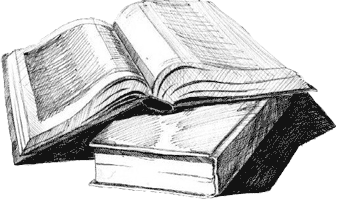 Читаем О.Генри
Читаем О.Генри










